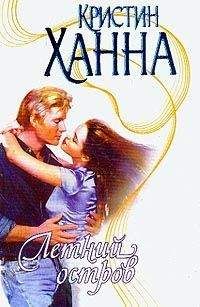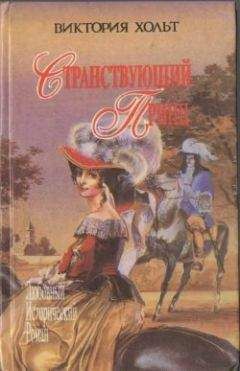Читать книгу 📗 "Здесь покоится Дэниел Тейт - Террилл Кристин"
До сих пор мне никогда не приходилось объяснять такие вещи – оказывается, это нелегко.
– Надо просто… смотреть на очертания того, что видишь перед собой, и копировать, – сказал я.
Она рассмеялась.
– Это-то понятно, но как сделать это правильно? Не могу же я просто посмотреть и сразу перенести на бумагу то, что вижу.
– Тут надо… – Я огляделся вокруг, и мой взгляд упал на вазу с небольшой, со вкусом подобранной цветочной композицией у нее на тумбочке. – Дай мне эту штуку, можно?
Она достала вазу, и я поставил ее на дальний край стола.
– Ну вот, начнем с левого края, с лилии, – сказал я. – По крайней мере, я не могу смотреть на всю картину целиком. Слишком много всего сразу. Я разбиваю ее на части. Смотри только на один крайний лепесток, вот на этот. Понимаешь?
Рен хмурила брови, глядя на цветок.
– Понимаю.
– А теперь разбирай на части дальше, – сказал я. – Смотри только на самый кончик лепестка.
– Смотрю.
– А теперь смотри на линию, которая отделяет кончик лепестка от фона. На весь лепесток не смотри. Только на эту линию.
Вместе, линия за линией, лепесток за лепестком, мы нарисовали цветок.
– Это трудно, – сказала она за работой. – Как тебе удается сконцентрировать взгляд на таком маленьком кусочке?
Я пожал плечами.
– Тренировка, наверное. Помогай себе руками, если хочешь.
– Как это?
– Вот так… – Я обернулся к ней и приложил ладони к ее голове по бокам, как шоры.
Она смотрела прямо на меня, и ее глаза оказались ближе, чем я ожидал. Я вдруг с необычайной ясностью почувствовал, как мои пальцы касаются ее лица – кожа к коже.
Одна мысль пробилась на поверхность сознания. «Можно ее поцеловать». Все люди так делают – все нормальные люди.
Я убрал руки и вернулся к рисунку.
– Очень глупо будет выглядеть, если я стану делать это в классе, – сказала она, приставив ладони к глазам и вглядываясь в вазу. – А ты всегда любил рисовать?
– Да, пожалуй. – Я растер пальцем линию. Я думал только об этой линии, все мое внимание было сосредоточено на ней.
– А почему тебе это нравится? Может, все дело в том, что у меня не получается, но я не вижу, что тут интересного.
Я пожал плечами.
– Мне всегда нравилось изучать что-нибудь, разбираться, как это работает. А когда рисуешь, можно самому что-то из этого создать.
– Довольно глубокая мысль, – сказала она и стерла линию, которой осталась недовольна.
Я фыркнул.
– Наверное. Я всегда больше всего любил рисовать людей. Маму рисовал, когда она…
Я осекся.
– Ой, – сказала Рен. – Мы затронули болезненную тему?
– Нет, я… ничего. – Конечно, я вспомнил не о Джессике. Я вспомнил о своей матери. О том, как сидел на полу и смотрел на нее, а она сидела в своем кресле, курила сигарету за сигаретой, ругалась с кем-то на экране, а я изучал каждую линию, каждый изгиб ее лица. Как будто, если я пойму, из чего складывается эта форма, то пойму и ее саму, пойму, за что она меня так ненавидит. У меня целый блокнот был изрисован ее портретами – потом она его нашла и выбросила, а на меня накричала за то, что зря перевожу бумагу.
Я не собирался рассказывать об этом Рен. Я никогда никому не говорил правды о себе. Это было правило номер один, и у меня были для этого причины.
– Мне пора, – сказал я.
– Серьезно?
– Да. Сестра будет психовать.
Она поглядела на меня, и глаза у нее чуть сузились. Я не мог расшифровать выражение ее лица. Может, это была растерянность, может, разочарование, или раздражение, или еще десятки разных чувств. С одной стороны, она казалась открытой книгой, а с другой – иногда я в ней ни слова не мог прочитать.
– Ладно, сказала она. – Отвезу тебя домой.
Лекс и правда психовала.
– Не пойму, о чем ты думал, – сказала она, утащив меня на кухню. – Не мог мне позвонить сначала? У кого ты был?
– У одной девушки из нашей школы, – сказал я. – Она новенькая.
Лекс опустила глаза в пол, а когда снова посмотрела на меня, на лице у нее была слабая улыбка.
– Ну… я рада, что у тебя уже есть друзья.
Но я был не уверен, что смогу снова разговаривать с Рен. Мне все еще было не по себе из-за того, что случилось, из-за того, как я вышел из шкуры Дэнни в свою собственную и даже сам этого не заметил. Нельзя больше такого допускать, ни за что. Я чувствовал шаткость своего положения остро, как никогда, даже острее, чем в тот вечер, когда подумал, что Джессика меня расколола.
Я пошел искать Николаса. Нужно было исправить то, что пошло не так между нами, и сделать это прямо сейчас. Убедиться, что он верит, будто я действительно его брат, – сейчас это было единственное, что я мог придумать, чтобы отделаться от чувства опасности.
Я обыскал весь дом, но его не нашел. Я знал, что он должен быть дома – его машина стояла в гараже, а в Калифорнии, как я уже понял, люди пешком не ходят вообще.
– Привет, – сказал я, увидев Миа в игровой комнате: она смотрела фильм о говорящей лошадке. – Николаса не видела?
Она покачала головой.
– Но он иногда любит прятаться возле бассейна, в шезлонге. Только ты ему не говори, что я тебе сказала.
– Не скажу. Спасибо.
Я вышел на задний дворик и оглядел все вокруг бассейна. Я не понимал, как можно спрятаться в шезлонге, пока не заметил, что один из них, у дальнего конца бассейна, развернут так, что видно только спинку. А потом, в слабом свете подводных ламп, заметил и голубую струйку дыма, поднимающуюся над шезлонгом. Одно из двух – или там пожар, или я нашел Николаса.
Я подошел к шезлонгу, и Николас поднял на меня глаза.
– Блин, – сказал он.
– Правду сказать, не самое надежное укрытие, – сказал я.
Он затянулся дымом из зажатой в пальцах сигареты.
– До сих пор меня тут никто не находил.
– Значит, плохо искали, – сказал я. Я сдержал слово – иногда это со мной бывает – и не стал выдавать Миа.
Николас ничего не ответил, только выпустил целое облако дыма вверх, к звездам.
– Можно, я сяду? – спросил я.
Он на меня не взглянул.
– Как хочешь.
Я опустился на прохладную траву возле шезлонга. Николас снова курил и внимательно разглядывал небо.
– Извини, что я днем вел себя как свинья, – сказал я.
– Ничего, – сказал он. – Я так даже удивлялся, как это тебя еще раньше не прорвало.
– Да, наверное, я сам до конца не понимал, как мне подействовало на нервы это возвращение в школу.
Он тихо посмеялся, будто про себя, какой-то шутке «для своих», которой я не понимал. Я не обратил на это внимания и продолжал действовать по плану – проявлять повышенное дружелюбие.
– Я понимаю, тебе это, наверное, тоже далось гораздо труднее, чем я думал, – сказал я. – Знаешь, я чувствую себя виноватым. Все переживают только за меня, а это ведь нас всех касается. Я просто хочу, чтобы ты знал – мне жаль, что я снова разрушил твою жизнь, и очень благодарен за все, что ты для меня сделал. Я знаю, тебе было нелегко, но ты мне здорово помог.
Николас посмотрел на меня, и я видел по его глазам, что в душе у него идет какая-то внутренняя борьба.
– Ничего не здорово, и тебе не за что извиняться, – тихо сказал он.
– Но я хочу извиниться, – сказал я. – Я хочу быть для тебя таким же хорошим братом, как ты для меня. Не хочу, чтобы между нами стояло что-то плохое. Больше не хочу. Никогда. Прости меня за все.
Я десять раз прокручивал в голове тот разговор в кафе. Было ясно, что я хватил через край в стремлении установить с ним контакт, когда сказал, что он мой лучший друг. Разногласия между Николасом и Дэнни, должно быть, были глубже, чем я предположил по их детским перебранкам и отстраненности, заметной на домашних видео. Теперь я хотел исправить старые ошибки, но старался говорить достаточно обтекаемо, чтобы не напортить еще больше, если окажется, что я неправ.
Пока я сидел и ждал его ответа, я понял: мне трудно с Николасом потому же, почему и с Рен. Я не мог понять, каким в его глазах был Дэнни, и потому никогда не знал, как себя с ним вести. Если мне удастся в этом разобраться, я наверняка сумею усыпить его подозрения раз и навсегда.