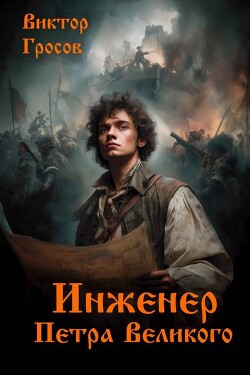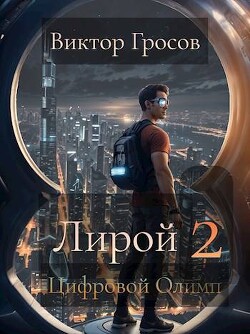Читать книгу 📗 "Инженер Петра Великого 4 (СИ) - Гросов Виктор"
— Ваше благородие, а что, если не прятать курок, а сделать его частью замка? — он показал мне деревянную модельку. — Вот, глядите. Ствол переламывается для зарядки. А когда его закрываешь, специальный рычаг внутри взводит скрытый курок. Просто, надежно, как топор. И осечки быть не может.
Это был технологический шедевр. Простое, изящное решение, которое убирало все лишние детали, оставляя лишь голую, смертоносную функциональность. Идея охотничьего ружья напрашивалась, тем более в моих эскизах, связанных с СМкой было и такое оружие. А Нартов углядел же — голова.
Но главным прорывом стал боеприпас. Опыт создания унитарных патронов для СМ-1, конечно, помог, но то было оружие армейское, где можно было пожертвовать изяществом ради надежности. Здесь же требовалась ювелирная работа. Простая идея с гремучей ртутью, которую я пробовал еще для винтовок, в малом объеме давала слишком много осечек. Нужна была иная, более хитрая система. Мы снова заперлись в лаборатории.
— Нам нужна не химия, а механика, — объяснял я соратникам, чертя на доске. — Нам нужна искра. Как в кремневом замке, только размером с ноготь.
Решение было изящным. Мы создали двухсоставный капсюль. Часами толкли в бронзовой ступке обычное стекло (про стекло — там вообще отдельная история получилась), превращая его в мельчайшую, острую пыль. Эту стеклянную крошку смешивали с серой и растертой в пыль селитрой. Сама по себе эта смесь не взрывалась, но была чрезвычайно чувствительна к трению. При резком ударе бойка микроскопические частицы стекла, скрежеща друг о друга, высекали сноп горячих искр, которые тут же поджигали серу. Но этой вспышки было маловато, чтобы гарантированно воспламенить основной заряд. Поэтому поверх первого состава мы насыпали второй — щепотку самого лучшего, мелкодисперсного дымного пороха. Он играл роль «усилителя», превращая крохотную искру в мощный форс пламени, который уже и поджигал основной, бездымный заряд в гильзе.
В итоге, после непрерывной, лихорадочной работы, у меня в руках лежал маленький, тяжелый, идеально подогнанный пистолет. Вороненая, переливающаяся синевой сталь ствола, рукоять из мореного дуба, которая как влитая легла в ладонь. И рядом — два десятка тускло поблескивающих латунных патронов, каждый из которых был маленьким произведением инженерного искусства. Это был приговор, спрятанный в кармане, он давал мне такое чувство уверенности, какого не давал и целый полк гвардейцев за спиной.
Нужно будет точно такой же сделать для Брюса и Петра Великого — они оценят это по достоинству.
Стрелять меня учил Орлов. Он сходу оценил преимущества такой штуковины. Мы уходили на дальнее стрельбище, где нас никто не мог видеть. Он не заставлял меня целиться в мишень.
— Забудь про эту мушку, Петр Алексеич, — говорил он, наблюдая, как я пытаюсь поймать цель. — Эта штука не для того, чтобы белок в глаз бить. Это для разговора в темном переулке, когда собеседник уже занес над тобой нож. Тут думать некогда, тут надо бить.
Он заставлял меня стрелять от живота, навскидку, по силуэтам, которые его солдаты вырезали из досок. Он учил меня указывать. «Куда рука смотрит, туда и пуля летит». А после стрельб мы шли в кабинет к де ла Серде. И там начинался другой урок.
— Представь, барон, — говорил старый испанец, расставляя на карте оловянных солдатиков, — ты в комнате, полной врагов. Они улыбаются тебе, говорят комплименты, наливают вино. Но каждый из них ждет момента, чтобы вцепиться тебе в горло. Твой пистолет — это рычаг. Одна только угроза его применения может выиграть тебе время, заставить их отступить. Главное — выбрать правильный момент и правильную цель. Не того, кто кричит громче всех, а того, кто молча тянется за кинжалом.
Орлов учил меня, как выжить в драке. А де ла Серда учил, как этой драки избежать или, если она неизбежна, закончить ее одним, решающим ходом. И когда я, наконец, научился выхватывать пистолет из кармана и, не задумываясь, всаживать пулю в грудь деревянному манекену, Орлов удовлетворенно крякнул. А испанец молча кивнул. Экзамен был сдан. Я был готов к Москве.
За два дня до отъезда в Москву в наше тихое болото ударил гром. Без всяких предупреждений. Я как раз стоял у паровой машины, слушая ее ровное, мощное дыхание — лучший звук на свете, — когда снаружи донесся такой шум, что я на секунду решил: шведы прорвались. Грохот десятков копыт по раскисшей дороге, зычные крики, собачий лай. Орлов, выскочивший на крыльцо, вернулся с таким лицом, будто увидел призрак собственного прадеда.
— Государь, — коротко выдохнул он.
Петр явился без свиты, без предупреждения, в сопровождении лишь полусотни драгун личной охраны. Его дорожная карета, заляпанная грязью по самую крышу, выглядела так, будто ее гнали без остановки от самого Петербурга. Он не стал ждать, пока ему откроют ворота, а просто спешился и, перешагнув через шлагбаум, широкими, стремительными шагами двинулся прямо к моей конторе, распугивая ошалевших от такого зрелища мастеровых. На нем был простой дорожный камзол, забрызганный грязью, ботфорты и треуголка, сдвинутая на затылок. От его громадной фигуры перло такой яростью, что воздух вокруг, казалось, потрескивал.
Я встретил его быстро шагая навстречу. Попытка изобразить радушие и поприветствовать монарха, как положено, с треском провалилась. Он пронесся мимо меня, как ураган, едва не сбив с ног, влетел в избу и с такой силой впечатал кулак в дубовый стол, что подпрыгнула чернильница, оставив на бумагах жирную кляксу.
— Бунт! — его бас прогремел так, что в окнах задребезжали стекла. — На моих землях! Под моим носом! Бунт!
Я молча закрыл за ним дверь, отсекая любопытные взгляды. В комнате остались только мы вдвоем. Петр мерил шагами тесное пространство, его огромная тень металась по стенам. Настоящий медведь-шатун в тесной берлоге.
— Я сказал — быть Компании! Я сказал — работать вместе на благо Отечества! А этот кафтанник уральский, этот хрыч мне указывать вздумал⁈ — он резко развернулся и вперился в меня горящими глазами. — Мне донесли, Смирнов! Брюс твое письмишко переслал, и ответ его собачий! Он тебя в Москву на суд зовет, как мальчишку какого-то! Он мою волю государеву ни во что не ставит!
Ах вот оно в чем дело!
Его ярость была настоящей, первобытной. Он воспринял вызов Демидова как прямое посягательство на его власть, на его право решать, кому и как вести дела в его стране. Демидов, сам того не ведая, наступил на самую больную мозоль самодержца.
— Сидеть здесь! — приказал он мне, ткнув в меня же длинным пальцем. — Никуда ты не поедешь! А я этого Демида за бороду из его московских палат вытащу! Я его сюда, в Игнатовское, в кандалах притащу, и будет он у тебя в ногах прощения просить перед всеми твоими мастеровыми! Пусть знают все, что бывает с теми, кто царскому слову противится!
Все. Капкан захлопнулся. С одной стороны — прямой, недвусмысленный приказ царя, который в гневе страшнее самого дьявола. Ослушаться — это в лучшем случае — опала, а в худшем — плаха. С другой — его «помощь» была для меня хуже смерти. Если Петр силой притащит Демидова на поклон, я навсегда останусь в глазах промышленной элиты царским любимчиком, выскочкой, который решает вопросы опираясь на государев гнев. Меня будут бояться, ненавидеть, но никогда не станут уважать и считать равным. А без этого партнерства, без этих связей, моя Компания рано или поздно задохнется.
Я медленно, с достоинством, опустился на одно колено.
— Воля твоя — закон, Государь, — мой голос прозвучал без тени страха. — И если прикажешь, я останусь здесь. Но прежде чем ты свершишь свой правый суд, позволь слово молвить. Токмо не как подданному, а как твоему стратегу.
Петр замер. Мое спокойствие и неожиданная формулировка сбили его с толку. Он нахмурился, махнул рукой:
— Говори. Коротко.
Я поднялся с колен. Теперь мы стояли лицом к лицу.
— Ты хочешь притащить Демидова сюда на цепи? — начал я. — И ты это сделаешь, я не сомневаюсь. И он будет просить прощения. Но что в сухом остатке?