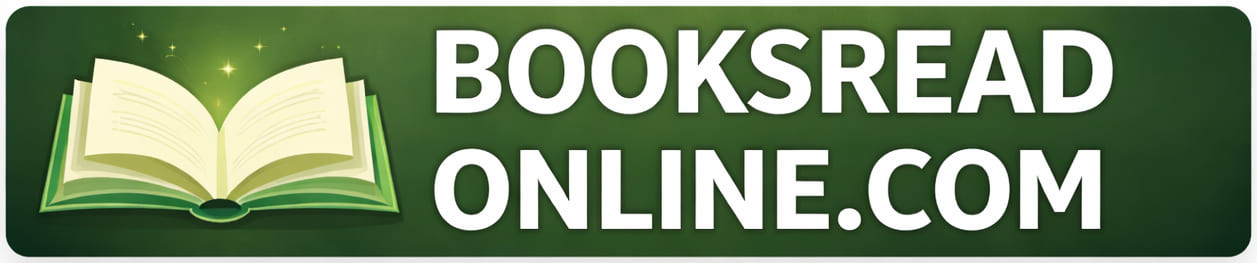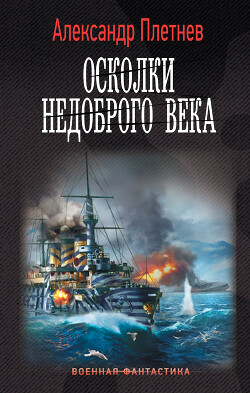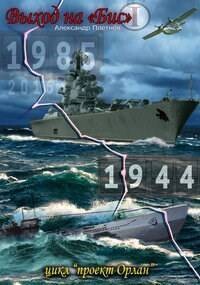Читать книгу 📗 "Выход на «Бис» (СИ) - Плетнёв Александр Владимирович"
Некоторую долю оптимизма придавал и тот факт (уж насколько Скопин помнил историю службы «Москвы»), что обе турбины крейсера отработали до самого конца карьеры без каких-то особых нареканий. Ко всему корабль к такому амбициозному проекту всё-таки готовили с особым тщанием, руководство СРЗ ручалось за проведённые работы по отладке машинно-котельных установок.
27 узлов, такую свою максимальную скорость указал Скопин адмиралу при составлении плана перехода, а по сути прорыва соединения к родным берегам. Увидев, кстати, кислые мины на лицах флагманских офицеров. Оправдывая не самые выдающиеся ходовые параметры тем, что противолодочному кораблю, у которого основное оружие вертолётная авиагруппа, высокая скорость особо требуется.
«В принципе, наверное, мы могли бы 'выжать» и двадцать восемь с половиной, как в лучшие времена крейсера на мерной миле госиспытаний, — вдогонку, уже сам на сам рассуждал каперанг, — правда, при этом там возникала такая тревожная вибрация на корму, что за последствия никто не ручался. Так что, долговременный скоростной режим надо постараться избегать. А наши «честные» 27 узлов могут стать тормозом для эскадры. Но прежде всего для нас.
Левченко, между прочим, из-за экономии топлива тоже всё время идти на полных ходах не может. Как бы того не требовала сложившаяся ситуация неизбежного стечения обстоятельств. Обстоятельств, когда превосходящий в силах враг на хвосте. Тут уж простая логика загнанных облавой подразумевала… да банальное она подразумевала — бежать, огрызаться по возможности и бежать. Оторваться от линкоров Мура на как можно большее расстояние.
Какие тут могут быть позитивы? И будут ли?
Британский адмирал был вынужден завязать ночной бой, якобы полагаясь на бесспорное преимущество английских артиллерийских радаров «новейших модификаций хорошо себя зарекомендовавших типов '281» и «279». Так вроде…
Но наши-то РЛС лучше. Пусть в качестве средства артиллерийского наведения их использование и сомнительно.
Поднажать, суметь разорвать дистанцию на десяток лишних миль? — Мур догонит чуть позже, ближе к рассвету. И всё начнётся практически в дневное время суток. Здесь тоже проглядывался один сомнительный фактор — вдруг англичане по светлому смогут разобрать, что в составе «красной эскадры» не два больших линкора типа «Советский Союз», как они полагали, а один. А второй гораздо меньший линейный крейсер. Это запросто подвигнет британского адмирала, вопреки полученным в ходе боя повреждениям и потерям, продолжить погоню [123].
Соблазнительно вообще бы избежать встречи с канадским фрегатом, который будет патрулировать на северном выходе из пролива и сообщит о появлении русских. Тогда может получиться совсем неплохо — англичане до поры нас попросту потеряют.
Утопить как-то неожиданно этот «Ланарк» что ли?.. Не дать ему выйти в эфир, забить передачу средствами РЭБ?
Для этого надо, во-первых, быстро «считать» характеристики его передатчиков. Ко всему интенсивная работа мощного излучения наверняка будет запеленгована и укажет на наш след.
А уж если Мур всё же разберётся в ситуации и всё же, и наконец, нагонит советскую эскадру, то навяжет нам бой в самой невыгодной конфигурации — аккурат комбинированным ударом, навалившись всем скопом: три «Кинг Джорджа», плюс быстроходный отряд контра-адмирала Гонта, а сверху палубные бомбёры-торпедоносцы с двух тяжёлых авианосцев. Вот тогда будет совсем весело!
Нет. Драться надо ночью'!
Всё это они успели всесторонне обговорить с Левченко и его флагманскими офицерами, единодушно придя к мнению: уж как бы ни хотелось поймать другие шансы и удачу, лучше врага бить по частям. Коли так само сложилось.
Обсуждал он всё это и со своим походным штабом. Обратив внимание, как переглядывались подчинённые, когда разговор заходил о превосходстве британцев в силах. Нетрудно было догадаться, что ребята задавались вопросом: «Почему? Почему имея в распоряжение такой весомый аргумент, как комплекс „Вихрь“ с ядерным зарядом, не использовать его против линейных сил противника, сняв эту угрозу кардинальным образом»? Однако видя, что командир данную тему даже не поднимает, сдержано молчали. Явно догадываясь, что неспроста.
«Кондор» по-прежнему лидировал в авангарде, открыв гидроакустическую вахту.
Рассчитывать на мегаваттный энергетический потенциал ГАС «Орион» в максимальной дальности обнаружения субмарин полноценно не приходилось. Гидрология малых глубин (позиционно оптимальных для подлодок) вследствие естественных помех предштормящего моря была скверная.
Впрочем, многого и не требовалось. Операторы-акустики, работая в режиме активного зондирования, «брали» эхопоиском уверенные семь-восемь миль — ближнюю зону. Уверено же гарантируя: «Мышь не проскочит»!
Среднюю и дальнюю зоны обеспечивали Ка-25. В плане поиска, как и уничтожения «дизелюх» пилоты «вертушек» тоже каких-то особых трудностей не видели. Работа штатная, по заведомо слабому противнику. Проблемой был порывистый и коварный ветер, превращавший взлёты и посадки с пятачка на палубе в «цирк с конями».
Всякий раз для осуществления запуска вертолётных звеньев в воздух на мостке перекладывали руль, правя на ветер, чтобы свести к минимуму возникающие над полёткой завихрения. Теряя при этом, кстати, кабельтов общей дистанции относительно идущего следом флагманского линкора. Приходилось всякий раз накидывать узел, выравнивая заданный интервал. Довольно напряжённый и рваный ритм.
— Идём, как… когда-то это называлось форзейлем, — вспомнил вышедшее из морского обихода словечко штурман.
— Так ли?.. — «быстроходное судно, плывущее впереди эскадры для наблюдения за неприятелем», — уточнил записную формулировку кэп, — хотя, если учитывать, что своими радиотехническими средствами мы как раз и выполняем функцию наблюдения за окрестностями, то согласен, в принципе так и есть. Высоко сидим, далеко глядим…
…и скривился. Почему-то к этой прибаудке ему захотелось прибавить циничного мата.
Линейные корабли — серая очерченная линиями и углами масса брони, орудийных башен и стволов, следовали в сомкнутом строю друг за другом точно два монолита. И волны нипочём. По крайней мере, так казалось глядя с крыла мостика за корму по линии кильватера — бодучие форштевни легко раскалывали любые накаты, разбивая в пену и брызги. В хвосте колонны уже разомкнутым интервалом — «Чапаев», которому тоже при взлётно-посадочных операциях приходилось выписывать похожие эволюции доворота на ветер. Только продолжительней — «Су-шестые» делали по два, три захода, прежде чем пилотам удавалось «поймать» палубу. Перестроенный из лёгкого крейсера авианосец обладал паспортной скоростью свыше тридцати узлов и переносил эскадренное отставание легче. Быстро навёрстывая.
Вот и сейчас наблюдая за ним в бинокль — принимая самолёты, корабль выкатился из кильватера на ветер — воочию зрели, с каким трудом вцепилась за посадочный крюк очередная «Сушка».
— Погода конечно не очень лётная.
— Мягко сказано. Для менее опытных пилотов она и взаправду нелётная.
Вид ушёл в сторону, «Кондор» «поехал» на волну.
Сложный погодный минимум. Задувая с «норда», хмарясь до черноты, полностью теряя горизонт, облачность — нижняя кромка примерно 150–200 метров.
На море воздействие ветра на вертолёты обусловлено сочетанием группы переменных факторов: ходом и качкой корабля, влиянием надстройки и края палубы. Взлёт по инструкции разрешался при ветре не более восемнадцати метров в секунду. Между тем стрелки корабельных измерителей скорости ветра подбирались (в пике порывов) к делениям 27–30 м/с.
Четвёрка противолодочных Ка-25 снялась резво и удачно — один за другим, сразу набирая горизонтальную скорость, назад по отношению к корабельному курсу. И уж затем, оказавшись в более предсказуемой воздушной среде, развернувшись, попарно обгоняли носитель траверзами, удаляясь. Удаляясь тёмными силуэтами, чтобы там далече развернутся в поисковый порядок.