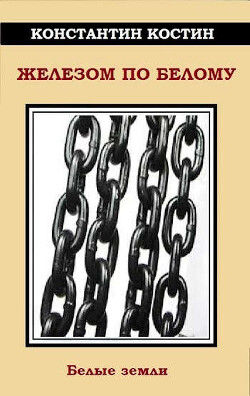Читать книгу 📗 "Табельный наган с серебряными пулями (СИ) - Костин Константин Александрович"
— Товарищ агент! — зашлепали за моей спиной шаги, когда я уже подошел к двери квартиры этажом выше — Товарищ агент!
Бениславская бежала по лестнице, прям как была, в домашних тапочках.
— Что случилось?
— Товарищ агент! Там!
Елки-палки, неужели Нельсон напал на Есенина⁈ Почему? Зачем?
— Что?
Револьвер уже был у меня в руке. Прострелить ногу — и не умрет, и далеко не убежит, и колдовать не очень получится.
— Я постучала в дверь — а они не открывают. И молчат. И не открывают. Она заперта. И не открывают.
Женщина в отчаянии заламывала руки.
Ладно. С богом.
Я перекрестился, достал из-за пазухи табельный крест, повесив его поверх куртки, и кинулся обратно, к комнате Есенина.
— На что закрыто? — бросил я через плечо.
— Крючок…
Трррах!
Подпрыгнув, я с силой ударил в дверь ногой и, когда крючок вылетел с веером щепок, рванулся вперед…
Чуть не убился об эту же дверь, которая обо что-то ударилась и захлопнулась обратно, но успел проскочить внутрь.
Картина внутри комнату отпечаталась в мозгу, как мгновенная фотокарточка.
На полу, вверх лицом, лежит тело… или человек без сознания. В длинном кожаном плаще, узкое лицо, усы щеточкой…
Ягода.
На лбу пришлепнута бумажка с бурыми расплывающимися строками. Что это такое — рассматривать уже некогда.
Есенин стоит на краю стола, просунув голову в веревочную петлю, привязанную к потолочному крюку. Когда-то на этом крюке висела люстра, и он до сих пор выглядит достаточно надежным, что выдержать тело человека. Глаза поэта страшно закачены вверх, видны только мутные белки, руками он вцепился в петлю.
И стоит.
— СЕРЕЖА!!!
Ему как будто только этого сигнала и не хватало: Есенин моргнул, открыл уже вернувшиеся в обычное положение, но совершенно безумные глаза и шагнул вперед.
Ахтыж…!!!
Я успел подскочить и поймать его за ноги. Не сильно-то помогало: поэт начал биться, явно пытаясь вырваться и закончить начатое.
— Отпусти!!!
— Сережа!!!
— Нож неси!!!
Бениславская, завывая, как сирена, умчалась на кухню, тут же вернувшись с огромным ножищем, которым можно было бы рубить с коня, как шашкой. Не задавая глупых вопросов типа «А что делать⁈» она полезла на стол и принялась пилить веревку. Есенин вырывался и кричал, что я должен его отпустить. Под ногами лежало тело Ягоды, самое спокойное и невозмутимое в комнате.
Веревка, наконец, лопнула и мы с Есениным вместе рухнули на пол… Эть!
Я получил мощнейший удар в грудь, аж еле-еле сросшиеся ребра стрельнуло болью, потом боксерский апперкот в челюсть — если так можно назвать удар из положения лежа — отлетел в сторону, в какую-то этажерку, а Есенин, напоследок пнув меня ногой, вскочил и бросился опять к столу, на котором стояла визжащая Бениславская.
— Я должен убить его! Не мешайте!
И тут же застыл, вцепившись побелевшими пальцами в край стола и скрипя зубами.
Я, охнув от боли — бедные мои ребра… — подпрыгнул к нему сзади и, просунув руки под мышками, зажал ему шею и потащил от стола. «Двойной Нельсон» — мелькнула в голове несвоевременная мысль. Именно так назывался этот прием, на фронте научили, был у нас бывший цирковой борец в отряде. Вырваться из него нельзя, но Есенин честно пытался.
— Я… должен… его… убить… — пыхтел он.
— Кого? — гаркнул я ему в ухо, — Кого⁈
Тот вывернул голову набок и бешено посмотрел на меня, кося глазом, как норовистый конь:
— Черного человека!!!
— Да где он⁈
Потому что Черный человек сейчас лежал на полу, раскинув в стороны носки сапог.
Есенин рванулся:
— Он… во мне!!!
От неожиданности я чуть было не выпустил его. Так вот что тут за катавасия происходит. Похоже, Ягода отчего-то возьми да и умри, прямо у Есенина в комнате. Нельсон, естественно, из тела вырвался — и бросился в ближайшую подходящую кандидатуру. В тело Есенина. Но подавить его, уж не знаю, почему, не сумел и теперь поэт намеревается покончить с собой, чтобы одновременно уничтожить своего мучителя, Черного человека. Не понимая, что в таком случае погибнет только он сам, а Нельсон освободится и рванется куда-нибудь еще.
— Пусти!
— Галя! — где Бениславская, мне не видно, но, судя по звукам, она прыгает у нас за спиной, не зная, чем помочь, — Галя, бегите к телефону! Звоните в МУР! Пусть сообщат Чеглоку, запомните — Чеглоку, что у вас в квартире Нельсон! Запомнили? Нельсон!
— МУР, Чеглок, Нельсон.
— Да! Бегите! Три креста!
Есенин еще немного повырывался, потом притих.
— Отпустите меня, — проговорил он, — Кречетов, да?
— Кречетов, Кречетов… — продолжил я его удерживать. Во-первых, откуда мне знать, кто сейчас со мной разговаривает: Есенин или Нельсон. А во-вторых — Есенина тоже выпускать из захвата рискованно. Вон как мне в челюсть впаял, хоть и поэт. Боксом, что ли, занимается…
— Отпустите, мне нужно его убить.
— Нельзя. Он тогда сбежит.
— Не сбежит. Я его запечатал.
— В каком смысле⁈
4
В общем, я начал понимать Чеглока, с его нелюбовью к поэтам.
Показав Есенину портрет Нельсона, того, изначального, царского, Чеглок понял, что наш, нынешний Нельсон — двоедушец. И сказал об этом мне. Но поэт-то в этот момент рядом стоял! Он тоже про двоедушца услышал и понял больше, чем нам хотелось бы.
Есенин понял, что в одном из его знакомых прячется черная душа старого колдуна. И, подумав, понял — в ком именно. В большом любителе есенинских стихов, товарище из ОГПУ Генрихе Григорьевиче Ягоде.
Вот что бы сделал нормальный человек? Да к нам бы в МУР пришел и рассказал! Вместе бы покумекали, что делать. А что сделал гражданин Есенин? Решил собственноручно изничтожить эту вредную тварь. Для чего написал стихотворение, которое душу Нельсона из тела Ягоды выдернет и в его, есенинское тело, загонит. А потом все просто — достаточно с собой покончить и Нельсон, запечатанный стихотворением, погибнет безвозвратно.
Толковый план, надо признать, лично я в нем изъянов не вижу. Кроме одного — какого хрена гибнуть-то нужно⁈
— Я думал, вы не знаете, что с ним делать…
— Думал он… Думают индейские петухи…
А потом, написав это самое стихотворение, он позвонил Ягоде и попросил прийти. И тот пришел. А Есенин изловчился — и пришлепнул ему на лоб бумажку с чародейным стишком. Что было дальше — я практически видел.
— Отпусти меня.
— Лежи, герой-самоубийца…
Да где там Бениславская бродит…? У меня уже руки затекли!
Протопали по коридору сапоги, в комнату ворвались ребята в кожаных куртках, которые быстро и надежно скрутили ремнями и Есенина и меня, даже дернуться не успел, и даже лежащего на полу Ягоду. Оно и верно, мало ли в ком из нас в настоящий момент мог Нельсон засесть… но меня-то зачем⁈ Я свой!
Я раскрыл было рот… Но тут в комнату внесли Бениславскую, перевязанную веревками, как колбаса, да еще и с завязанным ртом, и решил помолчать. Чтоб они не решили и мне заткнуть… У меня после того случая в Туркменистане до сих пор мерзкие ощущения.
Молчаливые парни в кожанках, закончив вязку, рассредоточились по комнате, и следом в нее вошел Чеглок. Окинул взглядом три спокойные колбасы и одну извивающуюся — Бениславская была крайне недовольна — и наклонился над телом Ягоды, рассматривая бумажку у него на лбу.
— Не трогайте! — выкрикнул Есенин, — Он вырвется!
— Да уж вижу… — Чеглок к бумажке и пальцем не прикоснулся, — Кровью писали?
А я-то думаю, чего у Есенина запястье перебинтовано…
— Да, — пробурчал поэт, — так надежнее…
— «…милый мой, ты у меня в груди…». В себя его вызвали и в груди запечатали?
— Да.
— Ох уж эти поэты… Пишут стихи, вкладывают в них душу, а на что такое стихотворение, да еще и кровью написанное, способно — не задумываются…
Так-то товарищ Чеглок прав… Только зачем нужно стихотворение, если оно без души написано?