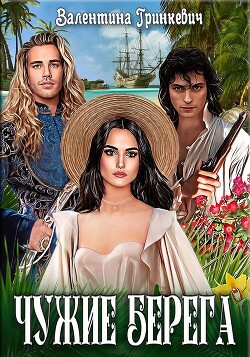Читать книгу 📗 "Пророчество ведьм или тайна одной татуировки (СИ) - Гринкевич Валентина"
– Ах, дитя мое. Мы, ведьмы, живем на этом свете очень долго. Я не могу сказать, что слишком, потому что это будет выглядеть, как будто я жалуюсь. Вовсе нет. Долгая жизнь – это награда, а не наказание. Поэтому задор в глазах у нас не угасает, с возрастом мы от жизни не устаем.
– Тогда в чем же дело?
Ведьма остановилась возле окна и молча долгим взглядом посмотрела вдаль на реку. Не то отдыхала, переводя дыхание после подъёма по крутой лестнице, не то задумалась о чем-то своем.
– Ой, вы простите меня, что я к вам со своими расспросами пристаю, – Нине стало неловко. И в самом деле, устроила какой-то допрос малознакомой женщине. – Если это личное, если вы не хотите говорить на эту тему – не нужно. С моей стороны, наверное, задавать такие вопросы совершенно бестактно.
Любовь Аркадьевна продолжала молчать, глядя в окно каким-то горестным остановившемся взглядом. Нина смутилась окончательно. Через долгую минуту, книжная ведьма нарушила молчание.
– Было событие, которое поделило мою жизнь на «До» и «После». Ведьмы хоть и живут долго, но в основном в одиночестве. Это специфика нашей сущности. За долголетие, за способности вышивать собственные стежки в полотнище бытия, завязывать свои собственные узелки на общих нитях судьбы приходится платить немалую цену. Одна из них – одиночество. Редким ведьмам удается обмануть мировой порядок и завести родную душу на этом свете. Но обман почти всегда вскрывается, и кара за него всегда страшна.Бывает ведьмы, не веря в карму, наперекор здравому смыслу, обзаводятся семьей, но никогда счастливый брак не длится долго. Чаще ведьмы рожают детей, но их дети практически никогда не наследуют магических способностей, живут обычной, почти всегда короткой жизнью и оставляют после себя только могильные холмы да огромные незаживающие раны утраты в душе. Хотя, конечно, бывают и исключения, которые только подтверждают общее правило.
Нина вспомнила страшную картину, увиденную в подвале пивоварни. Почувствовала ее затхлый запах и горький вкус. Услышала тяжелые слова колыбельной, призванные баюкать мертвого ребенка. И по ее коже пробежал мороз. Любовь Аркадьевна, не глядя на Нину, продолжала:
– Мне повезло. У меня был родной племянник. Младшая сестра умерла в родах, оставив на мои ведьмарские руки прекрасного белокурого ангелочка. Уж как я его любила, души в нем не чаяла. Хоть и знала, что лучше мне не привязываться, старалась держаться с ним холодно и на отдалении. Что бы судьба не увидела моей страсти, не скумекала что к чему и не наказала меня, дуреху, за любовь, и его, ни в чем не повинного, просто так, потому что под руку попался.
Долгое время провидение не обращало на нас внимание, и мальчик успел вырасти в умного смелого и благородного сердцем мужчину. Звали его Борис Рыжёв. Родной мой, любимый Боречка… Никаких магических способностей у него не было и про изнанку мироздания он не знал вообще ничего. А я и не хотела его просвещать. Тем более времена такие были… для нечисти очень непростые. Советский Союз, конечно, не Инквизиция, но общие черты все же имеются, пусть и не в буквальном, а в фигуральном смысле. Да и не поверил бы холодный, насквозь коммунистический Боречкин разум, ни в каких ведьм и колдунов, сколько бы ему пылкое сердце не твердило обратное.
Почти до самой пенсии работал Борис преподавателем в институте, был кандидатом филологических наук. Известный и всеми любимый человек. У него была одна страсть – белорусский язык. За эту свою страсть он и поплатился.
В конце 1950-хх годов в институте произошло странное событие. В актовом зале по распоряжению администрации собрали студентов и преподавателей. На сцену к трибуне поднялся глава Гродненского КГБ, не помню, как была его фамилия, да это, впрочем, и неважно. Собравшиеся были очень удивлены и его появлением, и его внешним видом. «Чекисты» во все времена не любили появляться на публике, а этот красовался на сцене в форме еще и с пистолетом на боку. Студенты удивленно переглядывались и перешёптывались, гадая, что же случилось.
Бравый безопасник поднял вверх ладонь, призывая всех к молчанию, и поведал им «дикую» для того времени историю. Якобы несколько преподавателей их института додумались до неслыханной враждебной дерзости: отправили поздравительную телеграмму новоизбранному президенту США Дуайту Д. Эйзенхауэру.
Мол, смотрите, у нас, а точнее сказать у вас, тут прямо под носом, в институте продолжают действовать идеологические враги Советской власти. Все, кто присутствовал на собрании не сказать, что бы ахнули, но удивились изрядно. Хоть на улице стояла хрущевская «оттепель», все помнили, как несколько лет назад, например, в 1950 году спецслужбы расправлялись с вольнодумными студентами, арестовывали их ночью и отправляли сразу прямой дорогой на Север. А тут такой чин занимается уговорами и увещеваниями.
Однако многие собравшиеся догадались о причине столь громкой «профилактической и пропагандистской» акции гродненского КГБ. Естественно, никакой поздравительной телеграммы Эйзенхауэру от группы преподавателей не было и в помине. А был всего лишь один учитель, который написал не американскому президенту, а дерзнул обратиться в ЦК Коммунистической партии БССР с требованием прекратить всеобщую русификацию страны. И этим учителем идеалистом был мой Боречка...
Тогда все закончилось только разговорами, но первый звоночек уже прозвучал, и судьба обратила злой взгляд в нашу сторону.
Однажды, на одной из пьянок, которые хоть и не часто, но все же случались у Бореньки дома, он зачитал своим, как он думал друзьям, написанное, но еще не отправленное письмо. Письмо было адресовано партийному руководству в защиту белорусскости. В письме Боренька возмущался, что «даже на многолюдных похоронах Якуба Коласа, главный идеолог БССР зачитывал официальное соболезнование с правительственной трибуны, написанное на бумаге, на русском языке и в нем часто повторял:
«Дорогой наш Константин Михайлович Якубколос ... »
Через пару дней пришли гебисты, они даже ничего не искали, сразу бросились к столу, подняли пишущую машинку, под которой так и лежало то самое злополучное письмо... Бореньку арестовали.
На бесконечных допросах его не били, даже не издевались. Следователь, молодой худенький еврейчик, вслушиваясь в объяснения пожилого белорусского учителя, только посмеивался свысока: «И кому это было нужно?.. Ком-му эт-то нуж-но?....»
Потом были регулярные допросы, решетки и нары, комедия суда, этапы, лагерь в Мордовии. Ему дали всего 4 года. Не так и много по тем временам. В Гродно были приговоры по 20 лет, основывающиеся лишь на хранении, изготовлении и распространении антисоветской литературы и прочей чепухе.
Но из лагеря мой Боренька уже не вернулся. Заболел пневмонией и выкарабкаться не смог. Я тогда ездила туда, искала могилу. Нашла. Поставить памятник не разрешили. Похоронен на территории лагеря, всего лишь фамилия в общем списке…
Любовь Аркадьевна тяжело вздохнула и замолчала. Руки ее безвольно повисли вдоль тела, морщины на лице как будто обозначились четче, взгляд заледенел.
Нина стояла, потрясенная ее неожиданной исповедью. Ей было бесконечно жаль наивного, несправедливо осужденного Бореньку, жаль Любовь Аркадьевну, потерявшую единственного близкого человека, жаль свою родину и всех людей, которые постоянно убеждают друг друга, что нужно радоваться мелочам, потому что в глобальном смысле над ними давно завис злой рок, который не устает посылать им то одно испытание, то другое.
– Извините меня пожалуйста… Я не знала… Я не хотела – залепетала Нина, для которой тягучее, почти физически ощущаемое молчание вдруг стало невыносимым.
– Ничего, деточка. Это давняя история. Было и прошло… и быльем поросло. Уже почти не болит, – ответила ей ведьма с фиолетовыми волосами. – Это ты меня прости, дуру старую, что я тебе своим печальными историями настроение порчу. Твое дело молодое, гуляй да веселись, о плохом не думай.
И они пошли дальше. Да. Потому что жизнь продолжается, потому что здесь и сейчас важнее, чем там и тогда. Шли молча, заводить разговор Нина больше не пыталась. Хватит, поговорили, заполнили неловкое молчание…