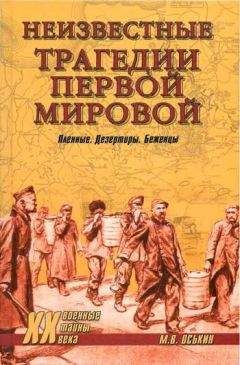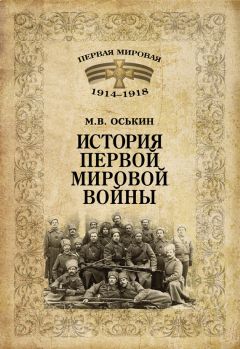Читать книгу 📗 "История Первой мировой войны - Оськин Максим Викторович"
С другой стороны, будет справедливо сказать, что авторитет императора Николая II к началу 1917 года резко упал даже в глазах гвардейских офицеров, некоторые из которых даже участвовали в подготовке дворцового переворота, воскрешая события XVIII столетия. Еще в январе 1917 года в Петроград должна была быть переброшена 1-я гвардейская кавалерийская дивизия, затем, после отмены, – 3-я гвардейская кавалерийская дивизия. Но к 28 февраля ничего не было сделано: гвардейская конница оставалась в районе Ровно, невзирая на ряд то отданных, то отменяемых приказов. Вряд ли все это было случайно.
М. Ф. Флоринский, изучая взаимоотношения императора с высшими властными структурами государства, на наш взгляд, совершенно справедливо полагает, что влияние царя на правительство – это одно, а на высший генералитет – совсем иное. Николай II «не мог перетасовывать руководство Действующей армии с такой же легкостью, как министров. Чехарда среди командного состава грозила немедленными отрицательными последствиями – полной дезорганизацией управления войсками и соответственно военной катастрофой». Именно поэтому царь был вынужден «сквозь пальцы» смотреть на отношения между генералами и оппозиционерами. М. Ф. Флоринский, в частности, приводит в пример известное письмо А. И. Гучкова к М. В. Алексееву в 1916 году, широко распространявшееся на фронте и в тылу [403]. Представляется, что как раз потому отношение императора к генералу Алексееву постепенно изменилось с доброжелательного на более негативное, что отмечается в ряде мемуаров. Лишь военный профессионализм М. В. Алексеева позволял ему удерживаться на своем посту.
Но и здесь нельзя не отметить еще одно странное «совпадение»: как известно, с конца 1916 года генерал М. В. Алексеев находился на излечении в Крыму. Там он продолжал оставаться высшим руководителем армии, что подтверждает утверждение оперативно-стратегического планирования на кампанию 1917 года, составленного в Ставке без М. В. Алексеева, но получившего силу только после санкции начальника штаба Верховного Главнокомандующего. Все еще больной генерал Алексеев, не вылечившись до конца возвращается в Ставку 23 февраля – как раз к началу событий в Петрограде.
Интересно, что когда генерал Алексеев в ноябре 1916 года уезжал лечиться, молва тут же разнесла информацию о том, что его сознательно отравили (новейший пример в достижении власти путем лживой информации подобного рода – бывший президент Украины В. Ющенко). Теперь же, как раз к самому началу революционных событий в столице (а ведь и государственный переворот был намечен на конец февраля!), начальник штаба Верховного Главнокомандующего, не долечившись, что еще более странно (высокая температура), спешно возвращается в Ставку. Неужели бывают такие совпадения?
И только теперь, когда в столице воюющего государства разворачивалась революция, для отправки в Петроград стали подбираться войска. При всем том, что как раз генерал М. В. Алексеев воспротивился возвращению в Петроград ряда гвардейских полков с фронта, и ничего не сделал для того, чтобы вывести из столицы хотя бы часть разлагающегося гарнизона и запасных полков. Карательные соединения должны были решительно навести порядок в столице.
Действительно, все данные подтверждают, что император, при всем своем фатализме, собирался бороться за корону до конца. Помимо экспедиции бывшего главкоюза генерала Н. И. Иванова (Георгиевский батальон в семь сотен штыков), посланной в мятежный Петроград непосредственно из Ставки (Могилев), предполагалось бросить на столицу и фронтовиков. Одновременно с трех фронтов (кроме Румынского) на восставших должны были быть направлены по кавалерийской дивизии и по два пехотных полка с пулеметными командами:
– Северный фронт – 67-й Тарутинский, 68-й Бородинский пехотные полки, 15-й уланский Татарский и 3-й Уральский казачий конные полки (отправка 28 февраля);
– Западный фронт – 34-й Севский, 36-й Орловский пехотные полки, 2-й лейб-гусарский Павлоградский и 2-й Донской казачий конные полки (отправка 1 марта);
– Юго-Западный фронт – лейб-гвардии Преображенский, 3-й Его Величества и 4-й Императорской Фамилии гвардейские стрелковые полки (отправка 2 и 3 марта), лейб-гвардии Уланский Его Величества конный полк. Уже вечером 27 февраля о предстоящей карательной экспедиции знал военный министр генерал М. А. Беляев, по идее, долженствовавший организовать умиротворение в столице до прибытия карательных частей.
Однако корень вопроса состоял в том, что император, чье царствование началось с кровавой Ходынки, не желал кровопролития. Часто высказывалось мнение, что Николай II якобы знал о зловещих и роковых пророчествах Серафима Саровского и Иоанна Кронштадтского, предупреждавших царя об обреченности его царствования. Возможно, мол, что это знание обрекло императора на пассивность и бездействие в самый критический момент. Действительно, ведь генерал Н. И. Иванов, брошенный в мятежную столицу первым, получил строгий приказ избежать кровопролития. Как возможно подавить бунт без крови – бог весть!
Тем временем уже 1 марта в революционной столице вышел в свет знаменитый Приказ № 1 по Петроградскому военному округу, подписанный Петроградским Советом и фактически утвержденный думцами. Теперь страх ответственности за мятеж и трепет перед возможной расправой правительственных частей, перед военно-полевым судом более не беспокоил солдат столицы: гарнизон не нарушил присяги; солдаты – не бунтовщики, а граждане и герои. Этот акт как нельзя более своевременно перевел восставшие войска на сторону революционеров.
Тот факт, что подобный акт являлся совершенно нелегитимным, никого не волновал: за документом стояли деятели Государственной думы. Таким образом, весь горючий элемент столицы был оправдан новыми властями и, следовательно, включен в дальнейшее противозаконное действие. Также исключалась и опасность контрреволюции, так как в Петрограде находились уже «оправданные» новой властью войска, свергавшие монархию, а потому в силу самосохранения долженствовавшие защищать новую власть. Армейские полки в свою очередь поддержали революцию, о чем свидетельствует неудавшаяся карательная «экспедиция» генерала Н. И. Иванова с частями Георгиевского батальона на Петроград.
Рухнула армия, рухнула и страна. Сбылось предсказание К. фон Клаузевица, сделанное им еще в первой трети девятнадцатого столетия при анализе провала похода Наполеона Бонапарта в Россию в 1812 году. Клаузевиц писал: «Его наступление не потому потерпело неудачу, что он повел его слишком быстро и далеко, как гласит обычное мнение: будучи единственным средством достигнуть успеха, это наступление потерпело крах. Россия не такая страна, которую можно действительно завоевать, то есть оккупировать; по крайней мере, этого нельзя сделать ни силами современных европейских государств, ни теми 500 000 человек, которых для этого привел Бонапарт. Такая страна может быть побеждена лишь собственной слабостью и действием внутренних раздоров. Добраться же до этих слабых мест политического бытия можно лишь путем потрясения, которое проникло бы до самого сердца страны. Лишь достигнув могучим порывом самой Москвы, мог Бонапарт надеяться подорвать мужество правительства, стойкость и верность народа».
Правда, Гинденбургу не пришлось пробиваться к русским столицам. Но в любом случае, тот трагический крен, что приобрел корабль русской царской государственности в начале 1917 года, на наш взгляд, был приобретен уже в ходе Первой мировой войны. Конечно, весь комплекс неразрешимых проблем и противоречий формировался столетиями, но ставить такой фактор во главу угла значит всецело отдать историю на откуп «объективных процессов», совершенно не воспринимая людей в качестве акторов исторического процесса. Как будто бы люди есть простые букашки, а ход истории определяется социологическими конструкциями, существующими только в сознании небольшой части этих самых людей.
Поэтому мы считаем, что именно ведение мировой войны царским правительством и разнообразная (от благоглупой до явно антигосударственной) деятельность многочисленных общественных и государственных структур российской нации сделали революцию не только возможной (это проявлялось и до 19 июля 1914 года), но и неизбежной. Отечественные ученые пишут: «Ситуация конца февраля – начала марта 1917 года смогла оказаться роковой для царизма лишь потому, что логически вытекала из экономической и политической конъюнктуры, порожденной войной. Неподготовленность России к войне, неповоротливость ее машины управления сделали неизбежными поражения на фронте и разруху в тылу. Это, в свою очередь, породило схватку в верхах, схватку, в которой обе стороны могли только проиграть… Политическая конъюнктура 1914-1917 годов тоже лишь завершала собой длительный процесс развития России, развития, в ходе которого власть раз за разом запаздывала с реформами» [404].