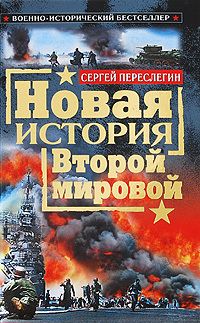Читать книгу 📗 "Праведник мира. История о тихом подвиге Второй мировой - Греппи Карло"
Еще одна вдохновляющая и, на мой взгляд, созвучная история — история польского военного Яна Карского [453] (настоящая фамилия — Козелевский), пытавшегося рассказать союзникам о жертвах Холокоста [454]. Впоследствии это описал Янник Хенель [455].
Я много рассказывал и о промышленнике Оскаре Шиндлере [456], члене Судето-немецкой партии [457], и об итальянце Джорджо Перласке [458], разочаровавшемся в фашизме, но так и не ставшем антифашистом [459]. Он выдавал себя за испанского консула, чтобы спасти тысячи человек от уничтожения в Венгрии, откуда всего за несколько недель отправили в Аушвиц почти полмиллиона евреев.
За последние два десятилетия эти истории стали известны всему миру — как и Рауль Валленберг [460], [461], шведский дипломат, одновременно с Перлаской спасший тысячи венгерских евреев. Когда я только начинал писать эту книгу, вышла монография Яна Броккена «Праведники» [462] — результат большого исследовательского труда. Это увлекательное произведение о разработавших хитрый план двух дипломатах, консулах в Литве — голландском Яне Звартендейке и японском Тиунэ Сугихара [463], [464].
Они были не единственными представителями дипмиссии, помогавшими евреям бежать. Польский дипломат и политик Тадеуш Ромер организовал выезд из стран Восточной Европы почти 16 тысяч человек, большая часть из которых после долгих скитаний оказалась в безопасности в Шанхае [465].
Всех этих людей Яд Вашем признал праведниками народов мира в 1963–1997 годах: Валленберг (1963), Грюнингер (1971), Карски (1982), Сугихара (1984), Шрёдер (1993), Звартендейк (1997), а также Перласка (1988) и Шиндлер (1993). С некоторым опозданием, в 1998 году, к этим несомненным праведникам присоединили и Лоренцо [466]. Церемония прошла в 35 километрах от Фоссано в городе Альба, в среду, 3 февраля 1999 года [467].
Процедура признания праведником довольно сложна, и тем удивительнее, какое количество итальянцев получили это высокое звание в 1990-х [468]. Первые праведники появились в 1963 году [469]; прежде всего предстояло собрать огромное количество документов, подтверждающих, что человек рисковал «собственной жизнью, свободой или безопасностью ради спасения одного или нескольких евреев от угрозы смерти или депортации, не требуя взамен материального или другого вознаграждения. То же касается и спасителей, которых уже нет в живых» [470].
Историк Серджио Луццатто, хорошо знакомый с церковной процедурой канонизации (он посвятил масштабное исследование Падре Пио [471], [472]), считает: порядок представления праведников в Яд Вашем напоминает правила Ватикана по причислению к лику святых.
Чтобы сообщить о кандидатуре на звание праведника, необходимо для начала прислать в Яд Вашем рассказ спасенного или других свидетелей о факте или попытке спасения (то есть все начинается с известности на местном уровне), затем требуются документальные подтверждения участия «спасителя» (само слово, используемое Яд Вашем, созвучно с христианским). Другими словами, весь механизм основывается на принципе «героической добродетели» праведника-нееврея, который, не имея никакого личного интереса или выгоды, рискуя собственной жизнью, спасает жизнь одного или нескольких евреев [473].
В процедуре признания праведником имеются некоторые спорные моменты, еще в 2013 году замеченные Луццатто: «Философия Яд Вашем строится вокруг идеи если не прямого чуда, то хотя бы спасителя», тогда как для исторической точности необходимо говорить о том, что «для спасения евреев чаще всего было недостаточно вмешательства отдельной выдающейся личности и требовалось сотрудничество нескольких обычных человек. Поэтому, благодаря в том числе и работе французских исследователей, историография теперь стремится восстанавливать истории праведников с учетом их сети».
И снова Луццатто: «Образ праведника акцентуализируется. Это видно на примерах из книги Энрико Деальо “Банальность добра” о Перласке и фильма Стивена Спилберга о Шиндлере. Но в оккупированной нацистами Европе вряд ли было возможно спасать евреев, действуя в полном одиночестве и совершая чудеса, достойные святого» [474].
Это, бесспорно, правда. Все названные выше спасители, используя собственное привилегированное положение, могли так или иначе рассчитывать на незаметную и чудесную «сеть» помощников — поэтому даже к свидетельству Леви стоит подходить критически. Именно этого Яд Вашем (в лице Мордехая Палдиэля [475]) и потребовал от Энджер еще в 1995–1996 годах [476]. А ведь туринский химик Примо Леви оставил мало места для сомнений — он рассказывал о пережитом в художественных произведениях и не раз повторял: «Тем, что я сейчас жив, я обязан Лоренцо» [477].
По убеждению Леви, история всегда зависит от множества факторов [478]. Если рассматривать причины его спасения, то без ответа останется вопрос, почему столь незначителен след Лоренцо в памяти общества и Холокосте, ставшем глобальным наследием [479]. Почему мы так мало знаем о Лоренцо?
Вероятнее всего, потому, что множество людей — мужчины в униформе, промышленники, дипломаты [480], образованные и с «положением», — во всех приведенных историях сразу же привлекали к себе внимание мировой общественности (как случилось с Валленбергом, пропавшем в 1945 году). Им посвящали фильмы и книги, сразу становившиеся популярными. Из участников реальной истории они превращались в героев легенд.
Ради защиты спасенных людей иногда приходилось уничтожать доказательства роли спасителей. Звартендейк сжег список 2139 евреев, которым выдал поддельную визу [481], «чтобы все бумаги до последнего клочка превратились в пепел», как пишет Броккен [482]. Но позже спасители нередко сами прерывали молчание.
Перласка передал дневник тем, кто мог бы его опубликовать, — но ждать пришлось более 40 лет [483]. Юкико Сугихара, жена японского консула, после смерти мужа [484] издала его мемуары. Так же поступила Эмили Шиндлер после выхода фильма Спилберга [485]. Карски выпустил книгу [486] тиражом 360 тысяч экземпляров уже в последний год войны — в декабре 1944-го [487].