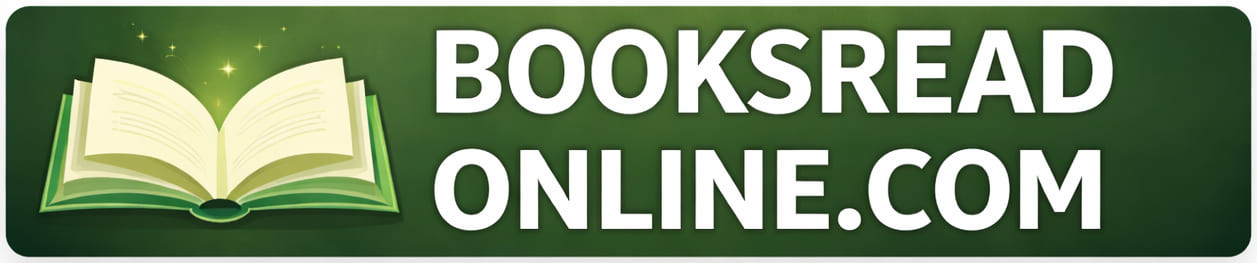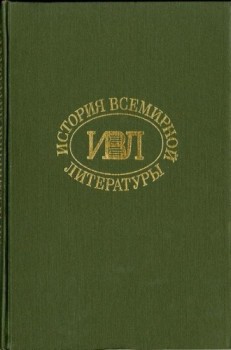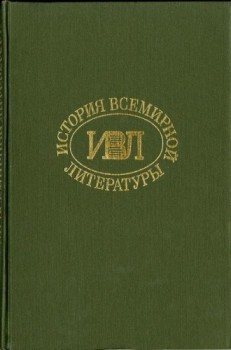Читать книгу 📗 "История всемирной литературы Т.6 - Бердников Георгий Петрович"
Близки к Альваро и персонажи первого выпуска «Исторических романсов» Сааведры (1841): король Педро Жестокий, граф Вильямедиана и др. Это такие же неукротимые личности, бросающие вызов власти, правосудию, богу, судьбе. Даже исповедуя патриархальные добродетели, они утверждают их с безоглядной и разрушительной неукротимостью, так что превращают саму верность в гордыню и своеволие («Верный кастилец»).
Своего рода эпилогом творчества Сааведры стала драматическая сказка «Разочарование во сне» (1842). Написанная на сюжет, давно известный испанскому театру, о вызванном магией поучительном сне, эта пьеса Сааведры выдает глубокое влияние Кальдерона, очевидное, впрочем, уже и в «Доне Альваро», где монологи героя, написанные десимами, развивают центральную мысль первого монолога Сехисмундо из драмы Кальдерона «Жизнь есть сон». «Разочарование во сне» — это притча о романтике, о романтическом отношении к жизни. В волшебном сне Лисардо переживает романтическую судьбу, испытывает и победы и поражения, влекомый максималистскими претензиями к жизни. Но если конечный вывод Альваро — это сопротивление до предела, а когда все возможности борьбы и мщения исчерпаны — последнее проклятие человечеству и самоуничтожение, то вывод Лисардо — отказ от борьбы, бегство в блаженное убежище мечты и искусства. Так в творчестве Анхеля Сааведры заканчивается развитие ведущей темы испанского романтизма.
Хосе Эспронседа-и-Дельгадо (1808—1842) не только в творчестве, но и в жизни был воплощением романтического бунтарства. В 15 лет он стал одним из организаторов тайного политического общества, был арестован и осужден, а после освобождения решительно вступил на путь революционной борьбы с тиранией. Длительная эмиграция, заговоры, аресты, ссылки, участие в уличных боях, революционная публицистика — вот его жизнь вплоть до безвременной смерти. Как политический мыслитель (брошюра «Правительство Мендисабаля», ряд статей) Эспронседа эволюционировал к последовательным революционно-демократическим, республиканским взглядам. В брошюре, посвященной анализу буржуазных реформ правительства Мендисабаля, Эспронседа обвиняет правительство в том, что оно покровительствует «капиталу богатых, но увеличивает при этом число и нищету пролетариев». Гибельной слабостью всех испанских революций Эспронседа считал неучастие в них «тех, кого называют грубым или низким народом».

А. Сааведра, герцог Ривас
Рисунок Ф. де Мадраса
Все творчество Эспронседы — грандиозная метафора его бунтарства. Хорошо узнав за годы эмиграции европейское романтическое движение, Эспронседа развивал чуть ли не все жанровые формы (исторический роман, фантастическая новелла, драма, философская поэма, политическая и философская лирика), связывая их с комплексом идейных и образных мотивов испанского романтизма. Деятельнее, чем кто-либо из испанских романтиков, Эспронседа создавал пугающе-таинственный и мрачный образ героя — мятежного отщепенца, не способного и не желающего совладать со своими страстями и требующего от жизни абсолютной свободы и абсолютной полноты самоосуществления. Таковы персонажи «ролевой лирики» («Песня пирата», «Песня казака» и др.), таков совершивший множество преступлений, но в душе жаждущий чистой красоты и любви Санчо Салданья из исторического романа в вальтер-скоттовском вкусе «Санчо Салданья, или Кастилец из Куэльяра» (1833—1834). Рыцарь XIII в., Санчо Салданья предстает затем в поэме «Саламанкский студент» (1837—1840) в облике дона Феликса де Монтемара, одного из дон хуанов XVII в. В этой поэме первые главы, в которых герой тщится превзойти всех смертных в своеволии и цинизме, — лишь краткая экспозиция к центральному эпизоду преследования ускользающего видения, когда все небесные силы разгневанно ополчаются против дерзкого человека. Белая тень — мираж счастья, «обещанная радость» — оборачивается скелетом, рассыпается в прах. И отчаяние «саламанкского студента» перекликается с заключительной строкой стихотворения Эспронседы «Солнце. Гимн»: поэт предсказывает, что «наш взорвется мир и рухнет в бездну» с его несправедливым родом людским и глухим к страданию богом.
Философски обобщенный, символический характер обретает схема романтического бунта в поэме «Мир-дьявол» (1839—1840). Во вступлении к поэме в фантастических образах, напоминающих Вальпургиеву ночь Гёте или шабаш ведьм Гойи, в видениях войн и оргий, идиллий и вакханалий история рисуется как вихревое сплетение добра и зла, насилия и любви. Поэт хочет познать «правду бытия», «тайны смерти и существования», понять и оценить пути человеческого духа. Сюжет поэмы отдаленно напоминает историю Фауста. Старик на пороге смерти вновь обретает юность, приходит в мир «новым Адамом». Ему предстоит оказаться в Мадриде в «год сороковой столетья, что зовем мы меркантильным», встретиться с мадридскими обывателями, с толпой, бурлящей, как в дни восстания, побывать в тюрьме, в притонах, в аристократическом особняке... Человеческая «фауна» в поэме напоминает испанский плутовской роман. Однако путь Адама лишь внешне повторяет путь пикаро. Постановка проблемы у Эспронседы не столько социально-этическая, сколько философская. Адам — не естественный человек, испорченный средой, но Человек, вместилище духа, «гордого разума». Становясь заключенным, беглецом, разбойником, Адам не меняется по глубинной сути. Между навязанной ему социальной ролью и его духовностью зияет провал. В последней песне над телом юной покойницы в публичном доме стоит и посылает проклятие богу не плут, не прожженный циник, не буржуазный эгоист, но мятежник, отмеченный каиновой печатью бунта, Человек, против которого объединились социальная и божественная несправедливость.
К песне второй, посвященной Тересе Манча, первой возлюбленной поэта, Эспронседа сделал примечание: «Эта песнь — крик моей души; пусть тот, кто не захочет, не читает ее, ведь она ничем не связана с поэмой». По-видимому, поэт был несколько смущен непривычным для тогдашней испанской литературы открытым биографизмом своего творения. Но исповедальный лиризм песни не исключает высокой символической обобщенности. В этом лирическом отступлении сжато повторен весь замысел поэмы, только не в параболическом, а в реальном плане.
История Тересы — та же история столкновения Адама с дьявольским миром. Тереса сама — вечный скиталец, преследующий «белую тень» счастья и обреченный на гибель. Ее душа сосредоточена на ожидании полной и беззаветной любви. Тереса — двойник Пирата и героических персонажей политической лирики Эспронседы. Те готовы купить ценой жизни свободу — она платит жизнью за недосягаемую полноту любви.
Человеческая духовность несравненно шире конкретного сегодняшнего человека. Поэтому беспредельная жажда идеала может увлекать и беспутного «саламанкского студента», и развращенного обществом Адама. Анонимный автор статьи, опубликованной в 1834 г. в газете «Эль Сигло» и приписываемой ныне Эспронседе, писал: «В противоположность холодным доктринам XVIII в., которые сводят нравственного человека к машине, управляемой точными математическими законами, которые презирают воображение и высмеивают высокие порывы человеческого сердца, мы верим, что чувства человека выше его интересов, желания — больше потребностей, а воображение — шире реальности».
Но стремления духа — не ложный призрак, у них есть опора в жизни, превращающая бесплотную мечту в предощущение должного. Для Эспронседы такая опора — чувственная красота мира, весеннее цветение земли, — пышной картиной его начинаются и заканчиваются и песнь, посвященная Тересе, и поэма «Саламанкский студент».
В целом «Мир-дьявол» остался незаконченным. Посмертно были опубликованы два фрагмента. В одном из них, названном при публикации «Ангел и Поэт», Эспронседа как бы подводит итог своим поэтическим поискам: стих его в этом фрагменте звенит от страстного напряжения,