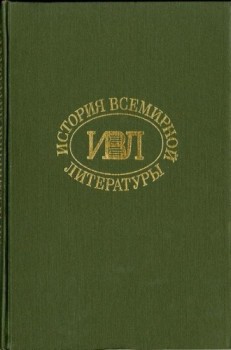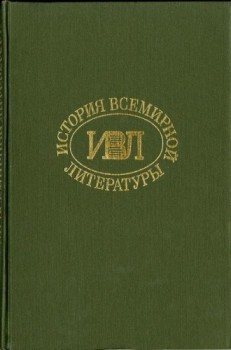Читать книгу 📗 "История всемирной литературы Т.5 - Бердников Георгий Петрович"
Трагедия современного человека, в отличие от античного, состоит в его отъединенности от коллектива. В этом сказалось пагубное воздействие разделения труда: «Вечно прикованный к отдельному малому обломку целого, человек сам становится обломком». Тем самым Шиллер уже критикует последствия буржуазного развития. Но, высказав эту гениальную догадку, он продолжает ход рассуждений по законам идеалистической логики. История человека им рассматривается имманентно, и понятно, что Шиллер остается в этом замкнутом кругу и тогда, когда предлагает свой знаменитый выход: для решения политической проблемы «нужно пойти по пути эстетики, ибо путь к свободе ведет только через красоту». Задача эстетического воспитания провозглашается как главная, чтобы способствовать гармоническому развитию человеческой личности. По существу, эта задача приходит в столкновение с идеями Канта о незаинтересованном искусстве, о приоритете формы над содержанием, идеями, которые противоречивым образом сочувственно излагаются в том же сочинении.
Важна, однако, общая тенденция — освобождение от догматизма Канта, сближение с Гете, проблески историзма и диалектики.
Черты историзма в известной мере проявляются в статье «О наивной и сентиментальной поэзии», где говорится не только о двух принципах искусства, но и о двух его этапах. Шиллер приходит к пониманию, что античная гармония недостижима и что новое время породило новый тип поэта, для которого очевидно разящее несовпадение идеала и жизни. В стихотворении «Идеал и жизнь» (1795) Шиллер дает опасный совет:
Всем пожертвуй, что тебя связало,
Если крылья силятся в полет,
Возлети в державу идеала,
Сбросив жизни душной гнет!
(Перевод В. Левика)
Но в статье Шиллера о современном («сентиментальном») поэте говорится несколько иначе: «Возникает вопрос, что больше его привлекает — действительность или идеал, хочет ли он представить действительность, как предмет отрицания, или идеал, как предмет утверждения». Отсюда вытекают два рода восприятия: сатирическое и элегическое (элегия как выражение печали по недостижимому идеалу).
В целом подход Шиллера в этой статье не исторический, а типологический, однако, вводя в эстетику понятие о трагической коллизии между идеалом и действительностью, он тем самым подготавливал романтическую эстетику.
После десятилетия, посвященного истории и эстетике (1787—1796), Шиллер возвращается к драматургии. Обращаясь к сюжетам из прошлого, он ищет новые формы их драматургического выражения. В этом плане каждая его драма — эстетический поиск.
Масштабностью действия, мастерством воспроизведения как исторического фона, так и мощных характеров в трилогии о Валленштейне (1797—1799) Шиллер близок историческим хроникам Шекспира. В «Прологе» к «Валленштейну» поэт утверждал, что только «великий предмет» заслуживает художественного изображения. Это был один из главных выводов в эстетической программе веймарского Шиллера — стремление к художественным обобщениям большого диапазона, возвышение над будничной провинциальностью. Исторические сюжеты позволяли поставить в центре драмы важный, значительный конфликт и представить незаурядных героев. Вместе с тем Шиллер не стремится к воспроизведению истории как таковой, он свободно обращается с материалом; его интересует не столько общественно-историческая, сколько морально-психологическая сущность изображаемого конфликта. Отдельным историческим прозрениям постоянно противодействует влияние этики Канта. Коллизия чувства и долга нередко заслоняет историческое содержание.
Трилогия о Валленштейне открывается одноактным «Лагерем Валленштейна», живописной исторической фреской, передающей психологию рядовых участников Тридцатилетней войны. Вторая часть («Пикколомини») изображает другой круг — генералитет, Валленштейна и его окружение, придворных императора; здесь завязывается узел интриги, которая и приведет к гибели главного героя. Образ Валленштейна многогранно раскрывается в последней части — «Смерть Валленштейна». Военачальник — жертва предательства Октавио Пикколомини и других своих вчерашних соратников. Но он не только жертва, он несет в себе трагическую вину. Понятие вины здесь усложнено. Вина и в том, что большие усилия приложены Валленштейном во имя мелкой цели — честолюбия. Вместе с тем — это измена императору, нарушение долга, как его понимали в XVIII в. И одновременно это долг вообще, вне истории, в кантианском смысле.
Если Валленштейн приподнят над кликой корыстных и бесчестных царедворцев и военачальников, то над всеми вознесен Макс Пикколомини — благородный юноша, воплощающий просветительский идеал Шиллера. Он мечтает о мире, о братстве людей, о созидательном труде, о покорении природы. Образ его трудно связать с изображаемой эпохой. Как и маркиз Поза в «Дон Карлосе», Макс — рупор идей автора. И гибель героя говорит о трагической неосуществимости его высоких стремлений (не только в Тридцатилетнюю войну, но и во времена Шиллера).
И вот судьба, с жестокостью своей,
Берет его и в пышном жизни цвете
Его бросает под ноги коней.
Таков удел прекрасного на свете!
(Перевод К. Павловой)
Мастерством психологического анализа отмечена «Мария Стюарт» (1800) — одна из вершин поздней драматургии Шиллера. Автора интересует совсем не тот всемирно-исторический смысл, который проявляется в реальном конфликте между католичкой Марией, опиравшейся на самые темные силы феодального мира, и Елизаветой, которая олицетворяла буржуазный прогресс Англии. Драматург исходит из конкретной ситуации: Мария — в тюрьме, она пленница Елизаветы, и английская королева, пользуясь своей властью, убивает неугодную ей и опасную для нее соперницу. В одном из своих трактатов Шиллер писал, что трагедия не должна быть историческим произведением. «В этом случае ей пришлось бы строго держаться исторической истины... Но цель трагедии — поэтическая: она представляет действие для того, чтобы взволновать и волнением доставить наслаждение». Более того, по мнению Шиллера, нередко «при грубейшем нарушении исторической истины поэтическая истина тем более может выиграть».
Шиллер «волнует и волнением доставляет наслаждение», изображая Марию в последние дни перед казнью. Тщетные попытки приверженцев Марии спасти ее и жестокая неумолимость Елизаветы воспринимаются не в контексте реальной истории (историю зритель может и не знать), а в конкретной сюжетной ситуации и вызывают ненависть ко всяческим формам насилия над человеческой личностью. В этом смысл морального торжества Марии над Елизаветой в одной из самых блестящих сцен трагедии — встрече двух королев.
Идейное содержание трагедии многозначно. Шиллер не снимает вины с Марии (даже в тюрьме она вдохновляет своих сторонников на политические интриги), но вместе с тем ее антагонистка Елизавета представлена и самодержавно-деспотичной, и лицемерной. При этом в осуждении Елизаветы проявляется новая важная грань мировосприятия Шиллера — критическое отношение к буржуазному развитию Англии, предвосхищение романтической критики эгоизма и стяжательства.
Женские образы в ранних драмах Шиллера были отмечены некоторой искусственностью, односторонностью характеристики и даже психологической немотивированностью. В «Марии Стюарт» Шиллер мастерски передает все многообразие душевных движений, сложную гамму чувств, как это особенно ярко проявляется в сцене встречи двух королев. Елизавета и завидует молодой и красивой Марии, своей державной родственнице, и наслаждается ее унижением, и, может быть, готова проявить царственную снисходительность, если почувствует ее покорность. Мария только что ощутила радость свободы, оказавшись в солнечный день на лужайке перед тюрьмой. Но ненависть к Елизавете оказалась сильнее жажды свободы. Она высказывает все, что наболело у нее на душе, она торжествует, хотя это торжество стоит ей жизни.
О многообразии художественных поисков Шиллера-драматурга свидетельствуют две следующие, столь непохожие одна на другую драмы: «Орлеанская дева» (1801) и «Мессинская невеста» (1803), уже принадлежащие XIX столетию.