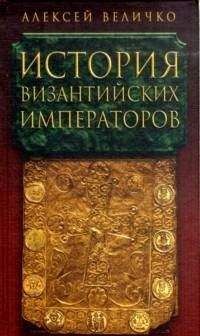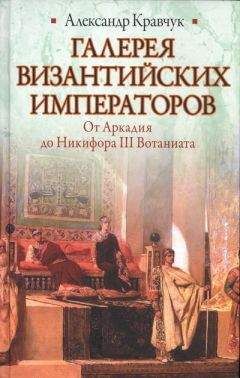Читать книгу 📗 "Алексей Величко - История Византийских императоров. От Константина Великого до Анастасия I"
Впрочем, несмотря на все старания придворных партий посильнее столкнуть двух август, св. Евдокия продемонстрировала блестящие нравственные качества своей души. Она осталась не замешанной ни в одну политическую или придворную интригу и ни разу не позволила себе резких мер и высказываний в адрес св. Пульхерии. Весь свободный досуг она посвятила Богу и созданию замечательных литературных произведений, переложив в стихи героического размера избранные места из Восьмикнижия Моисея. В том же духе она переложила пророческие книги Захария и Даниила, а в стихах гомерического размера изобразила некоторые эпизоды из жизни Иисуса Христа. Особенно ей удалась поэма о св. Киприане Антиохийском, в которой изображалась борьба христианства с язычеством[607]. Со временем при ней образовалась группа интеллектуалов, среди которых выделялись Павлин и Кир. Видимо, это обстоятельство несколько взволновало св. Пульхерию, посчитавшую вновь образованную придворную партию вполне способной оттеснить её. Конечно, она не стремилась к власти и не собиралась воевать за неё — напомним, что помыслы старшей сестры св. Феодосия были обращены к Богу, и обет девства был дан ею далеко не случайно. Но в её сознании утвердилась мысль о её долге перед Империей, как Богопоставленной августе, и св. Пульхерия всерьёз опасалась, зная слабости своего брата, что перемена фаворитов у трона, устранение от участия в управлении неизбежно негативно скажутся на делах государства.
Первое время царица отдалась воспитанию дочери, но после её замужества и отъезда в Равенну жизнь св. Евдокии утратила привычный смысл и ритм. Беспокоясь о Евдоксии, она упросила мужа разрешить ей отправиться в Иерусалим, чтобы у Гроба Господня помолиться о благополучии молодой четы; и муж, конечно, удовлетворил её просьбу. Окружённая подобающей свитой, она отправилась в Антиохию, где произвела настоящий фурор своей образованностью, благочестием и обаянием. Восхищённые антиохийцы воздвигли в её честь на площади города бронзовую статую, а в сенате — золотую. В ответ св. Евдокия выделила значительные личные средства на укрепление стен города, строительство нового храма и сооружение общественных бань. После Антиохии св. Евдокия отправилась в Иерусалим, где и провела восемь месяцев, живо интересовалась бытом тамошнего монашества, занималась благотворительной деятельностью, строила монашеские общежития и лавры, часто общалась с подвижниками Православия. В 439 г. она вернулась из Иерусалима и привезла в Константинополь множество реликвий, в том числе мощи святых[608].
К несчастью, по приезде её отношения со св. Пульхерией резко ухудшились. Как обыкновенно бывает, истинных причин ссоры между членами святой семьи не знает никто; можно догадаться, что как любая жена, она хотела видеть мужа настоящим правителем государства, и ей казалось, что наличие св. Пульхерии у кормила власти рядом и даже впереди брата искусственно принижает его способности и таланты. Это настолько стандартный мотив поведения для любящей женщины, что трудно отказаться от мысли, что он не был чужд и св. Евдокии. По-видимому, ей казалось, что царь, ставший зрелым мужем, способен самостоятельно управлять государством и, более того, сможет избежать некоторых крайностей и ошибок, которые она находила в деятельности золовки. Зная отношение царя к Несторию, принимая в расчёт его горячее желание сохранить единство и мир в Церкви, можно сделать вывод о том, что некоторые церковные нестроения после Эфесского Собора 431 г. царица связывала с позицией св. Пульхерии, находя её излишне ригористичной.
Надо полагать, аналогичные мысли посещали и самого императора, которому внушали, будто высокое уважение, демонстрируемое окружающими его сестре, автоматически предполагает некоторое принижение его статуса. Очевидно, что, как всегда чуткое, придворное окружение умело читать мысли царя и давало им нужный ход. По крайне мере, евнух Хрисафий, состоящий при императоре и, как все фавориты, желающий приумножить своё влияние, деятельно соучаствовал в этой интриге, целью которой стало полное отстранение св. Пульхерии от власти.
Как полагают, в очередной раз его величество случай помог ему в этом. Как-то раз св. Пульхерия попросила брата подарить ей сад, очевидно, очень красивый, прилегающий к одному дворцу. Святой Феодосий ничего не имел против этого и, не глядя, подписал эдикт, поднесённый ему сестрой. В этом, конечно, нет ничего удивительного — кто стал бы вычитывать документ, поднесённый родным человеком, делившим с тобой все тяготы управления государством, и обратившимся с просьбой о помощи?
Каково же было его удивление, когда на заседании сената, на котором присутствовал и сам государь, св. Пульхерия вслух прочла этот документ, где, между прочим, значилось: «Весь дворец, дворы и сады императрицы дарованы мне императором. Императрица Евдокия становится моей рабыней». Конечно, император был в гневе и немедленно отстранил сестру от всех дел; более того, он приказал патриарху св. Флавиану (447–449) рукоположить её в диаконисы, чего всё же не случилось[609]. Гордая дочь императора Аркадия, узнавшая о замыслах брата, не стала воевать с самым близким для себя человеком. Она решительно заявила ему о том, что отказывается от соправительства, отослала ему своего препозита, распустила двор и в 443 г. вообще удалилась от дел, переехав в Едом, где с тех пор стала жить в своём дворце по монашескому уставу[610].
Ничего удивительного или неожиданного эта история не имеет и вполне правдоподобна. Насколько можно судить, инцидент произошёл вскоре после Третьего Вселенского Собора, где позиции брата и сестры резко разошлись. Святая Евдокия и св. Феодосий Младший были на стороне Нестория, напротив, св. Пульхерия была недовольна тем, как император оценил для себя существо вероисповедального спора и как он разбирался с противоборствующими сторонами. Кроме того, втайне она не желала примириться с тем небрежением, которое ранее публично выказывал ей Константинопольский патриарх Несторий. Видимо, св. Пульхерия в запальчивости решила напомнить брату некоторые его недостатки, в частности, известную небрежность при изучении отдельных документов. Конечно, для этого совсем не обязательно было выносить ошибку императора на публичное осмеяние — видимо, сестра действительно забыла, что перед ней не мальчик, которого она растила, а уже взрослый муж и император.
В известной степени такая опала была несправедлива по отношению к св. Пульхерии, но так получилось, что едва ли не одномоментно её соперница также оказалась отставленной от дел и от дворца. История эта выглядит следующим образом. В 440 г., в день Богоявления, император отправился из дворца в храм и по дороге встретил простого человека, поднёсшего ему в подарок яблоко необыкновенных размеров. Святой император по-царски вознаградил дарителя и отослал яблоко жене. Но, получив яблоко, св. Евдокия решила по-своему сделать приятное мужу и передарила его другу детства царя Павлину, который, пользуясь дружбой с царём, имел свободный доступ к обоим членам императорской семьи. В этот день сановник заболел и находился дома. На беду, она не уведомила верного придворного, откуда яблоко попало к ней самой. Получив подарок, Павлин, в свою очередь, решил отдать его, как редкостный плод, царю. Круг замкнулся, и св. Феодосий к величайшему удивлению получил от друга детства то самое яблоко, которое часом ранее отослал жене. Взволнованный царь решил узнать у царицы, где находится его подарок. Ничего не подозревающая св. Евдокия, чувствуя неладное, испугалась и солгала, что съела его. Святой Феодосий был, конечно, добрым человеком, но здесь ревность взяла над ним верх. Он посчитал, что жена изменила ему с Павлином.
Обычно утверждают, что последовавшие вскоре за этим опала, суд и казнь Павлина произошли вследствие данного инцидента. Однако нельзя скидывать со счетов и то свидетельство современников, согласно которому Павлин замыслил мятеж, ещё ранее роптал на императора и уготовил ему смерть. «Лживые историки, еретики, которые нетвёрдо держатся истины, рассказали и заявили, что Павлин был послан на смерть из-за императрицы Евдокии. Однако императрица Евдокия была благоразумной и целомудренной, незапятнанной и безупречной в своём поведении»[611].
В принципе, ничего невероятного в таком предположении нет: в те времена слабость власти смущала и соблазняла многие умы, вчера ещё клявшиеся в верности царям. И нет ничего удивительного в том, что Павлин, почувствовавший угрозу своей жизни или даже карьеры, мог попытаться организовать быстрый заговор, закончившийся его окончательной дискредитацией в глазах царя.