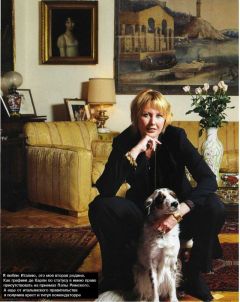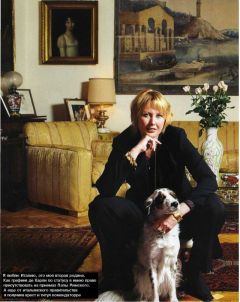Читать книгу 📗 "Это я — Елена: Интервью с самой собой. Стихотворения - Щапова-де Карли Елена"
Послесловие
Елена Щапова как литературный миф
«Елена Щапова де Карли пишет о себе. А кого еще она знает так близко, так досконально, как не себя?» (из рецензии в парижском журнале «Мулета — Б», 1985). Да, действительно, возразить трудно. Ведь жанр первой книги определен Еленой как «интервью с самой собой» (именно таким было оригинальное название). Монолог, в форме которого написана книга, вряд ли поможет нам стилистически классифицировать творчество Елены, монолог — явление индивидуальное, во всяком случае, интересующий нас монолог индивидуален, по-своему оригинален во всем, начиная орфографией и заканчивая эмоциональным уровнем подачи материала (который, впрочем, «скачет» от первой и до последней страницы «романа» — форма также весьма условная). Кстати, первоначально книга вышла без нумерации страниц — открывай любую и… ой, что это?! Уже ль та самая Елена?! — проза, что называется, «неровная» до невозможности, и здесь Елена верна себе и искренна с нами, поскольку принадлежит к числу авторов, которые, видимо, пишут хорошо, когда им хорошо и пишут плохо, когда им плохо (или наоборот).
Что же касается свободы авторского письма (это и лексика, и орфография, и пунктуация), то «Это я — Елена» — книга, в которой автор использовал эту свободу, казалось бы, в полной мере. Впечатление обманчивое. Вот и К. Кузьминский в предисловии «От редактора, взявшего на себя функции корректора» пишет, что до него рукопись уже кто-то правил, хотя он считает, что «автор сам знает, когда и зачем он ставит ту или иную точку». (Напомню, речь идет о книге, вышедшей в Нью-Йорке, за тысячи километров, через океан от многочисленной армии фининспекторов, любящих потолковать о поэзии.) Что же за язык такой у нас, если почти через столетие после Хлебникова нужно открывать Америку в Америке, что, оказывается, и по-русски можно писать «всякие вольности»!
Когда речь идет о свободной прозе (или поэзии) свободного человека, который, к несчастью, пишет по-русски, камнем преткновения является злополучная «ненормативная лексика». И вот ведь парадокс: если Лимонова (бывшего мужа Щаповой) поносили именно за то, что он печатно назвал многие вещи своими русскими (не латинскими или какими другими!) именами и ввел их в литературу, то Щапову чистят за эту самую латынь: «Сколько синонимов — латынских и аглицких — к трехбуквенному слову, красующемуся на каждом российском заборе… То есть, до русского языка графине далеко». Уже невольно ждешь привычных для нас по недавнему прошлому истеричных возгласов «С кем вы, мастера культуры?!», обвинений в недостаточной народности и непонимании «правды жизни» (которые отчасти и прозвучали).
Таким образом, если основным оценочным критерием избрать лексику, выходит, что Лимонов, выражающийся на «крепком мужском языке», справедливо претендует на «народность» (понятность и доходчивость) своих произведений, а графиня, как и полагается ей по чину, вернее, — титулу, пишет «непонятную народу ахинею». И то сказать, ведь что такое язык Елены Щаповой? «Язык графини — это язык московской эстетки 60-х — 70-х годов прошлого столетия, лишь семантически (а не количественно!) отличающийся от языка А. А. Ахматовой (чей язык лишь вдесятеро превосходил словарь Эллочки-людоедки), язык, мягко говоря, убогий». И дался же вам ее язык! — хочется воскликнуть, но нет, надо понять смысл процитированного. Одно можно вынести из вышеизложенной сентенции: произведения Щаповой вредны и антинародны, впрочем, как и поэзия А. Ахматовой (непонятно только, кого же из них хотел уничтожить подобным сравнением загадочный «Н.Н.», написавший рецензию; сдается мне, что обеих).
Подобные реплики легче всего было бы списать на удивительную и всепроникающую «совковость», которая территориально, географически переместилась в центры русской эмиграции вместе с ее носителями (вернее сказать — разносчиками), если бы к ней не примешивалась и какая-то индивидуальная мыслительная примитивность. (Вспоминается гневное обвинение из «Собачьего сердца»: «Профессор, вы не любите пролетариата!» и спокойный на него ответ: «Да, я не люблю пролетариата».)
Зачем ломиться в открытую дверь, уличая Щапову в том, что она «пишет, заранее ориентируясь на богему»?! Ведь она этого никогда не скрывала. Во всяком случае, никогда не ощущала себя частью массовой культуры, несмотря на определенный опыт работы в шоу-бизнесе.
Очевидно, что на Западе традиционная, ставшая уже архаичной, поэзия, рифма, во всяком случае, (то есть — форма, сдерживающая содержание литературного произведения четкими и добровольно приемлемыми автором рамками) существует сейчас весьма условно, в основном, в песнях поп-сингеров и различного рода рекламных роликах, превратившись в необходимый компонент массовой коммерческой культуры.
«Будущее русской поэзии — это проза», — провозгласила Елена Щапова в интервью американской газете «Гринвич Войс» почти революционный для русской литературы тезис. Не торжество прозы над поэзией, а синтез первого и второго дает начало жанру, который Саша Соколов величает «проэзией», а тот же Константин Кузьминский — «поэтопрозой». («…Время флорентийского двора кончилось, последние снобы-эстеты растворились золотыми песчинками в тяжелой черной земле — прозе».)
Хотя на вопросы о влиянии бывшего мужа на ее литературные занятия Елена неуклонно отвечает, что творчество Лимонова никак не могло на нее повлиять, поскольку она всегда была самостоятельным поэтом и до него и после, это самое влияние очевидно. («Когда Лимонов писал стихи, он заставлял своих жен писать стихи, когда перешел на прозу, его жены были вынуждены сделать то же самое…» — Из высказываний Д. А. Пригова; первые признаки мистификации.)
Лимоновский роман, второе действующее лицо которого после самого Эдички — покинувшая его супруга, вышел в свет в 1979 году, а книга Щаповой, в которой «крокодилу Эдику» отведено не самое последнее место, с почти аналогичным названием — спустя пять лет. Признаться, мысль о некоей вторичности, более того — второсортности приходит в голову после разглядывания обложки книги с таким названием да еще и голым (голой) автором в придачу. Однако не во вторичности или второсортности дело. Перед нами — совершенно замечательное явление, этакий «Пигмалион наоборот»: литературные герои вступили в перепалку, сойдя с книжных страниц и приняв облик, навязанный фантазией автора.