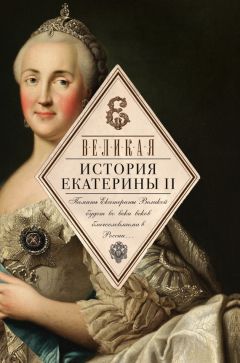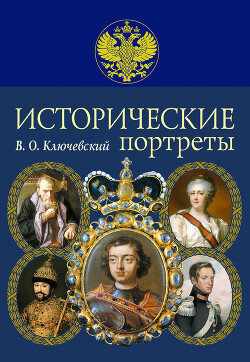Читать книгу 📗 "Великая. История Екатерины II - Ключевский Василий Осипович"
Приурочение определенных хозяйственных занятий к известным классам общества, как видно, не могло быть выполнено и нарушалось главным образом в пользу высшего дворянского класса, который через посредство своих крепостных или лично получал возможность участвовать в производительной деятельности, принципиально принадлежавшей одному среднему состоянию. Экономическая политика императрицы Екатерины II, однако, не только направлена была на то, чтобы удержать определенные отрасли производства за низшими классами, но повлияла и на более резкое распределение недвижимых поземельных имуществ между ними и высшими слоями общества. <…>
Государственное межевание, предпринятое в 1765 г. (комиссия о межевании учреждена 5 марта 1765 г.), привело к трем особенно важным последствиям: к отобранию в казну многих земель, распаханных помещичьими крестьянами, без прав на это, что естественно должно было вызвать сокращение крестьянских запашек и отозваться на их благосостоянии; далее, к лишению имений лиц из среднего класса, незаконно ими владевших, и, наконец, к укреплению за землевладельцами законно принадлежавших им имений, причем этим лицам предоставлена была возможность выкупить из казны часть припаханных ими земель. Государственное межевание, таким образом, поставило в более определенные отношения казну и дворянство как главнейших представителей землевладения того времени. <…>
Важнейшим из духовных факторов в образовании сословного строя надо считать обязательно-сословное образование, наследственно получаемое членами одного и того же общественного слоя. Правда, что профессиональный характер его значительно ослабел (например, в кадетском корпусе), а обязательность окончательно уничтожена была при Екатерине; но теперь сами сословия готовы были смотреть на такое образование не как на обязанность, а как на свою привилегию. Начало сословности, хотя и стало менее исключительным, однако также продолжало держаться в среднем образовании, где наряду с прежними профессионально-сословными заведениями появились новые, отличные от них лишь тем, что давали воспитание вместе с образованием в сословном духе порознь детям обоего пола. Новые школы предназначались не только для высших классов, но и для среднего (например, коммерческое училище); при этом состав учащихся в духовных семинариях, число которых заметно возросло при Екатерине II, существенно изменился: довольно пестрый в первой половине XVIII в., он в это время ограничен был детьми одних церковнослужителей. Итак, сословный характер образования все еще ясно сказывался в системе, принятой императрицей Екатериной II.
Нельзя сказать, однако, чтобы ученица Локка удовлетворилась началом сословного образования. Общеобразовательная и бессословная школа, преследующая педагогические, а не профессиональные цели, впервые утвердилась в России в ее царствование и благодаря ее собственной деятельности, что, разумеется, несогласно было с началом сословности в образовании. Комиссия об устройстве народных училищ в России, основанная императрицей в 1782 г., к концу прошлого века (1796 г.) учредила до 316 народных училищ, в которых более 17 000 детей обоего пола (преимущественно мальчиков) и разных состояний получали общее образование; университетские курсы, о которых заботилась Екатерина, также предназначены были для лиц, происходивших из разных слоев общества.
Тем не менее система образования при Екатерине не утратила сословного характера. Живучесть этого начала, быть может, объясняется популярностью тех идей о сословном государстве, которые высказывались на Западе многими авторитетами и были восприняты Екатериной; не только сама она несомненно находилась под их обаянием, но и в русском обществе содействовала распространению тех же взглядов.
Итак, <…> императрица Екатерина подчинялась влиянию слагавшейся до нее организации русского общества, почему и расширила, и усилила действие факторов, сыгравших под давлением законодательства важную роль в образовании сословного строя; вместе с тем она, однако, принуждена была сделать несколько уступок в пользу такого распределения хозяйственных и духовных средств между общественными группами, которое более соответствовало естественным условиям развития бессословного государства. <…>
Для того, однако, чтобы прочно установить определенные нормы, нужно было подготовить и твердые гарантии в их исполнении. Реальных гарантий в самом быту Екатерине так и не удалось разыскать, быть может, потому, что она об этом деле заблаговременно не подумала или боялась приниматься за такую кропотливую, малозаметную работу, результаты которой были еще далеко впереди. О формальных гарантиях императрица также вспомнила не сразу, хотя и дала их обществу в виде местных учреждений, введенных губернской реформой 1775 г.
Как бы то ни было, вопрос о разграничении сословных интересов Екатерина думала первоначально обсудить в частных комиссиях с бюрократическим характером, учрежденных в 1763–1765 гг. Затем, не удовлетворившись их деятельностью, она, как известно, поручила осуществление той же задачи большой комиссии о составлении проекта нового уложения; хотя и работы депутатов не приведены были к окончанию, однако их мнения и проекты многое выяснили самой императрице и отчасти предрешили направление ее сословной политики. Осуществлению этих задач способствовали конечно и статс-секретари Екатерины, и некоторые из ее приближенных.
На низших ступенях общественной лестницы стояли крестьяне, самый многолюдный класс русского общества. Положение важнейших из разрядов этого слоя не было одинаковым.
Казенные крестьяне (дворовые и государственные), число которых значительно увеличилось по секуляризации имений духовенства и по присоединении к ним однодворцев (1764 г.), а также некоторых второстепенных разрядов населения, менее других нуждались в улучшении своего быта [113]: эта группа крестьян оставалась относительно свободной, за исключением разве одних «приписных», находившихся в тяжелой фактической зависимости от владельцев частных заводов. Хотя императрица в одной из своих собственноручных заметок и выразила твердое намерение «освободить всех государственных дворцовых и экономических крестьян», даже тех из них, которые будут пожалованы, «кой час положение сделано будет, как им быть», однако судьба этих классов, значительно уравненных между собою, существенно ни в чем не изменилась в течение ее царствования; лишь быт приписных крестьян был несколько улучшен благодаря указам 1779 и следующих годов.
Гораздо тяжелее было положение крепостных, число которых несколько превосходило количество казенных крестьян.
Вопрос о личных и имущественных правах крепостных крестьян не назрел еще в первой половине XVIII в., когда все население одинаково было закрепощено государству и частный характер крестьянской крепости еще не вполне выяснился. Но после того, как со второй половины XVIII в. крестьяне оказались единственным классом, крепким дворянскому сословию, а дворянство, напротив, получило «вольность», причем власть его над крепостными стали отличать от государственной власти, вопрос о положении их в обществе выступил резче прежнего на первый план. В то время начали также сознавать, что «крестьянство, яко весьма многолюдный, полезный и необходимый род государственный, приносящий не токмо помещику, но и самому государству пользу и необходимые надобности, имеет право столько же, как и прочие государственные роды, требовать защищения от причиняемых ему насилий, тем наипаче, что если при всех суровостях помещиковых отказать крестьянину в сем последнем его прибежище, то ему ничего иного не останется, как одно только отчаяние, побег и чтобы восстать против своего господина».
Императрица Екатерина хорошо усвоила себе эти взгляды. Она первая из русских государей решительно высказала мысль о том, что крепостной – такой же человек, как и его господин, и с едкою иронией вывела последствия обратного взгляда. «Если крепостного нельзя признать персоною, – читаем мы в одной из ее собственноручных заметок, – следовательно, он не человек; но его скотом извольте признавать, что к немалой славе и человеколюбию от всего света нам приписано будет. Все, что следует [говорится] о рабе, есть следствие сего богоугодного положения и совершенно для скотины и скотиною делано». Крепостной в глазах Екатерины был не только человеком, но и персоною, т. е. должен был быть особою, наделенною известными личными и имущественными правами. «Естественная вольность» даже в среде крестьян должна была подлежать возможно меньшим ограничениям. Эта мысль всенародно высказана была в виде вопроса, предложенного Вольно-экономическому обществу и в виде общего принципа в гл. XI Наказа. Идеи, провозглашенные императрицей, многими живо обсуждались и в обществе и в комиссии, многих просветили и большинство членов комиссии 1767–1774 гг. склонили в пользу улучшения крестьянского быта.