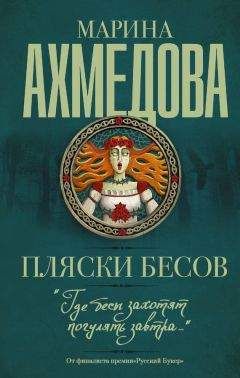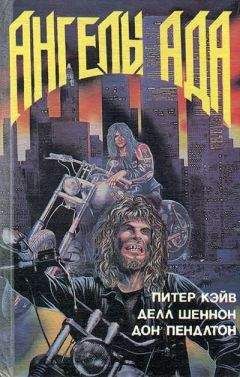Читать книгу 📗 "Смерть в Средневековье. Сражения с бесами, многоглазые ангелы и пляски мертвецов - Лужецкий Игорь"
Настолько допустимая, что существовало (далеко не в случайных местах) несколько специальных храмов — некромантейонов, в которых можно было вопросить того или иного умершего. Они напоминали храм Аполлона в Дельфах тем, что жрецы их были прорицателями. Но особых очередей там не собиралось. По причинам, которые я указал выше: дорого, далеко и нужно не всем и не всегда.
Тут можно рассказать о случае коринфского тирана Периандра и его жены Мелиссы. Периандр убил свою жену и, надругавшись над ее мертвым телом, бросил ее на погребальный костер без одежды, чем еще раз унизил свою супругу. И тем бы все и кончилось, как у тиранов заведено, но нет. Некогда он дал ей на хранение сокровище, и лишь она знала то место, куда его спрятала по просьбе мужа. И это сокровище правителю и потребовалось. Он шлет доверенных людей в некромантейон, они приносят жертвы, им является дрожащий от холода дух Мелиссы и ничего не говорит. Вернувшись, они рассказали Периандру о результатах своего посольства, и тот раздел тысячу богатейших женщин города, устроив величественнейший посмертный дар жене, — сжег все их платья. И та сказала, куда спрятала искомое сокровище.
На что я хочу обратить свое и ваше внимание, рассказав о Сауле, Одиссее и Периандре? Это все очень непростые люди. Все трое отличались великой мудростью, каждый на свой лад. Саул мог пророчествовать и был одно время хорошим царем. Одиссей вошел в античную мифологию как один из хитрейших и изобретательнейших людей, а Периандр, кроме всего прочего, по мнению эллинов считался одним из семи великих мудрецов Эллады.
То есть это люди великого ума и великих страстей, которые толкают их на край гибели. Кто-то, как Улисс, смог удержаться, кто-то, как Саул, пал. Но все они — мужи сложной и великой судьбы. Которые, что важно, прибегают к некромантии, когда иных вариантов перед собой не видят. А вопрос, стоящий в данный момент перед ними, — вопрос жизни и смерти: у Саула — решающее сражение, у Одиссея — возвращение домой, у Периандра — сокровище, без которого зашатается его трон.
Так что можно заключить, что взывание к мертвым — орудие последнего шанса. И такое, к которому не всякий рискнет прибегнуть. И это понятно, если взглянуть в тексты римских классиков: Овидия, Стация и Лукана, которые описывали обряды и жрецов. Особенно примечательна в этом смысле Эрихто из Фессалии, описанная Луканом. Это мрачный двойник Кумской Сивиллы, жрицы Аполлона. Она стара, тоща, нечесана, живет средь трупов и сама напоминает покойницу. Пребывая в исступлении, беснуется и воет. Использует для магии даже не серу, как другие вызывающие мертвых, но слюну бешеной собаки, хребет гиены и аравийских змей, которых берет голыми руками. Она воплощенная нечистота. Но когда она повелевает мертвому телу, тот встает и говорит, отвечая на вопрос. Зрелище, конечно, то еще. Такое лучше видеть раз в жизни или не видеть вовсе.
Так что даже в языческом мире античного Средиземноморья отношение к некромантии было более чем настороженным, что уж говорить о средневековой Европе. Там это искусство было не в ходу. Настолько, что видоизменилось само слово. И изменилось на латинский манер, что неудивительно — латынь была единственным языком науки. Греческое necro трансформировалось в nigro, а непонятная manteia — в ясное magia. И так появляется nigromagia — черная магия, которая изначально и включала в себя исключительно некромантию. Так что Воланд не зря отрекомендовал себя именно как специалист по черной магии, ибо сам он занимается в романе преимущественно некромантией. Но почему сразу не сказать, что он специалист по некромантии? Дело в том, что Лукавый на то и лукав, чтобы не сказать ничего напрямую, но тонко намекнуть.
Но вернемся. Средние века интереса к некромантии или, как ее еще называли, психомантии, то есть к гаданию посредством вопрошания умерших, не знали. Интерес к практике возник в эпоху Ренессанса, то есть с возрождением интереса к Античности во всех ее проявлениях. А новый и наибольший из бывших расцвет некромантии в Европе связан с эпохой не столь давней — с XIX веком. В который она вошла под именем «спиритизм» — это, по сути, перевод на английский термина «психомантия».
Я давно задавался вопросом, как вышло так, что XIX век и начало ХХ века оказались эпохой массового увлечения спиритизмом. Не вязалось это у меня в голове, ибо как совмещаются вера в прогресс, техника, сила пара, взгляд, устремленный в будущее, и тут же — столоверчение, спиритические сеансы и медиумы. Не билось как-то. Но этот вопрос у меня пребывал до поры на гвоздике в подвешенном состоянии: вопрос есть, но времени, желания и, главное, необходимости отвечать на него — нет.
Но здесь я о него споткнулся. Точнее, споткнулся о смежную тему, а там и этот вопрос под руку попал. И завертелось. Итак.
Эта история начинается во времена Просвещения. Хотя сделаю важную оговорку. В нашей историографии это время принято величать эпохой Просвещения, а во Франции, родине самой эпохи, ее называют siècle des lumières, что на русский язык лучше перевести как «век светил», то есть время ярких публичных интеллектуалов. На мой взгляд, это вернее, ибо особого успеха в массовом просвещении эта эпоха не продемонстрировала, а вот разных пассионариев от пера там было в ассортименте — от подлинно больших ученых и популяризаторов науки до невероятно талантливых журналистов. Хватало и непонятых прожектеров трагической судьбы, пророчивших этому миру разное неприятное.
Итак, гремит эпоха светил, ликует бунтующий дух, над белой пеной париков летят перья буревестников нового века, жирные венценосные пингвины плотнее кутаются в горностай своих мантий, цепи клерикального рабства готовы пасть — восторг. И, что важно, выходит Энциклопедия, та самая. Толковый словарь наук, искусств и ремесел.
Это был длительный и многотомный труд множества авторов, которые хотели охватить своим умом всю ойкумену, то есть назвать и описать все, что они знают. А что это значит? Дать имя и описание всему — задача, которую Бог поставил перед Адамом в саду Эдема. Это труд по присвоению человеком мира, ибо, называя то или иное явление, мы определяем ему место в ряду других явлений. Так что Энциклопедия — труд по переприсвоению мира.
И само собой разумеется, что, разбираясь со всем миром, они не могли обойти такое явление, как смерть. И здесь начинается интересное, то, обо что я и споткнулся.
Эти люди, авторы Энциклопедии, в массе своей не были католиками. Не все из них даже были христианами, хотя тут как посмотреть. Но и атеистами они не были. Взгляните, что пишут о религии и Церкви и они сами, и их ученики, тот же Робеспьер: антиклерикализма там — хоть отбавляй, а вот атеизма нет.

Чтение у Дидро
Огюстен Монжин, 1878. The Rijksmuseum
Великий Д’Аламбер и не менее великий Дидро — отцы энциклопедического проекта — склонны укорять церковников за их излишне мрачное отношение к смерти. Смерть естественна, почти всегда легка и несет покой. К чему нагонять лишний мрак? Она отдохновение от трудов, тягот и забот. Они буквально славят «дурманящую сладость смерти». Я, конечно, знал, что в ту эпоху были в моде и римские стоики, и эпикурейцы, и скептики, относившиеся к смерти весьма спокойно. Но то, что пишут европейцы XVIII века, — дальше мысли авторов античных. Это что-то между Римом и «царством сосен и льдами небывалой страны» Бодлера. Но есть там и что-то остросоциальное. Например, некий акцент на том, что смерть — благо для измученного бедняка, которому ярмо феодальное всю шею натерло.
И это первый крупный штрих, точнее, даже не штрих, а первый слой грунта, на который ляжет полотно. Второй слой грунта нанес Руссо. Этот весьма занимательный человек обожал критиковать город и восхвалять деревню — пока сам в деревне долгое время не пожил, после чего начал писать о черствости и тупоумии мужика. Правда, эти его тексты популярностью не пользовались, да и написаны были сильно позже, зато описываемый им пасторальный рай, где живут простые, сильные и честные люди, которым не чета изнеженные горожане, наоборот, понравился многим. Само собой, популярностью эти труды пользовались среди тех, кто их читал, то есть среди завсегдатаев столичных салонов, у которых были очень своеобразные представления (весьма далекие от реальности) о том, как должен выглядеть пасторальный рай.