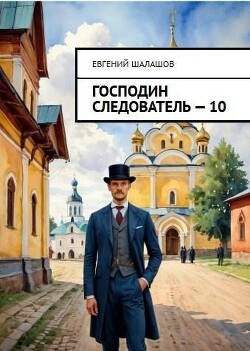Читать книгу 📗 "Господин следователь. Книга 12 (СИ) - Шалашов Евгений Васильевич"
— А что тут сказать, господин исправник? — отозвался я в тон исправника, — Видимо, придется еще раз сходить. Не люблю, когда загадки загадывают. Нет бы напрямую сказал — брякнулся на ровном месте, вот и все. Но если у Горбова лоб пробит, он и помереть может. А помрет — так мне уголовное дело открывать придется, а покойника допрашивать, это вы сами знаете, не всегда удается.
— Значит, в больницу сходить? — уныло поинтересовался Савушкин.
— Нет, Спиридон Спиридонович, у тебя своих дел по горло, сам пойду, — решил я к облегчению помощника пристава.
Посылать Савушкина, получу информацию из вторых рук. А дело-то мне вести!
— А вам, господин коллежский регистратор, надлежит к графам Игнатьевым сходить, — повернулся исправник в сторону Савушкина. — Слышал, что госпожа графиня какую-то кражу обнаружила, зайти нужно, проверить. Если кража имелась, жалобу нужно взять.
— Слушаюсь, — без особого энтузиазма отозвался помощник пристава.
У Спиридона и на самом дел работы невпроворот. В отсутствие Ухтомского надо и за городовыми присматривать, и самому с обывателями беседовать. Но сходит он к Игнатьевым, разберется. Авось, жалобы никакой не будет. А я в больницу.
Черепно-мозговые травмы вообще штука непредсказуемая. Федышинский как-то говорил, что был в его практике случай, когда мужик, которого рубанули топором по голове (вдавленное повреждение теменной кости с обильным кровоизлиянием), отправился в кабак, просидел там около часа, а потом пошел к доктору, у которого прямо во время приема и умер.
Теоретически, если Горбов умрет, то никакого дела можно не открывать — списать все на непогоду, на гололед, тем более, что раненый никого не винил. Только, если имеется злоумышленник, который и на самом деле пробил череп Горбову, то это все равно рано или поздно вылезет наружу. И в маленьком городе Череповце это станет известно. А мне почему-то не все равно — что обо мне станут думать. Доброе имя заработать сложно, а вот потерять его можно быстро.
Потерпевшего в больницу доставили друзья. Значит, логично, что это они и совершили. Всегда первыми подозреваемыми становятся друзья и родственники потерпевшего, потому что так, обычно и бывает.
— Спиридон Спиридонович, давайте, мы так поступим, — предложил я. — Я в больницу, допрашивать потерпевшего, а вы своих подчиненных озадачьте — кто из них что-то видел, что-то слышал. Не может такого быть, чтобы у городовых видоков или свидетелей не нашлось. — Посмотрев на исправника, спросил:
— Василий Яковлевич, у вас возражения есть?
— Никаких возражений, — усмехнулся Абрютин. — К чему возражать, если кто-то готов выполнить работу твоих подчиненных?
В больницу я пришел примерно через час. Нужно же было вначале чаю попить с Василием, лясы поточить.
Ох уж эти земские больницы! Длинный барак, внутри которого обустроены палаты, забитые людьми. Запах карболки, крепкого табака, пота. За тонкой перегородкой слышатся разговоры. Кажется, кто-то и стонет? Еще хорошо, что тепло и печки не дымят.
В коридоре, на скамейке, дремала немолодая женщина в относительно белом халате. Скорее всего, это и есть земская медсестра. Или, как ее Савушкин назвал — хожалая сестра? Раньше я такого и термина-то не слышал, даром, что историк [12].
— Здравствуйте, матушка, — поздоровался я с медсестрой.
Медсестра — это чисто условно, но мне так привычнее. Главное — вслух это не проговаривать. И матушкой ее назвал, потому что читал как-то, как обращаются к пожилым сестрам милосердия, уравнивая их с женами священников.
— Ой, здравствуйте, здравствуйте, — слегка испугалась женщина, завидев человека в чиновничьей форме. Подавив зевоту, торопливо пояснила: — Спала мало, вот, сомлела. У нас нынче хавос в больнице. Наших человек семь, из уезда еще человек пятнадцать привезли. Да еще сколько по домам распустили, не считала. Вчера доктора наши весь день ноги да руки гипсовали. Пришлось еще и Михаила Терентьевича просить, чтобы помогал. А ночью — кому утку подать, кого в уборную отвести, кому пить дать.
Сестра даже попыталась встать, но я усадил ее обратно, а еще и сам присел рядышком.
— Простите, матушка, что побеспокоил, — осторожно заговорил я. — Знал бы, что вы так устали, не пришел бы. Но у меня служба своя, вы уж простите.
Служба, это такая штука, что за нее все прощается.
— А вы ведь следователем будете?
— Следователем, — не стал я спорить. А зачем спорить, если оно так и есть?
— Чернавский, значит, а звать Иваном Александровичем, — хмыкнула женщина.
Ага, и тут меня тоже знают. Но следователь я один, не перепутаешь.
— А вас как звать-величать? — спросил я.
— А так и зовите — матушка. Меня все так зовут, кроме…
— Кроме одного маленького засранца, — сделал я вывод.
Сестра вытянула голову, осмотрелась, потом сказала:
— Засранец, нет ли, не моего ума дело.
— А я ведь фамилию не называл, — усмехнулся я, сделав вывод, что засранцем Елисеева считаю не только я, но даже медсестры.
— Так и не надо, — отмахнулась матушка. — Я поняла, о ком речь, но он врач, а я только сестра. Бог даст, станет и он приличным человеком.
Как знать, как знать. Ежели, явится ко мне господин Елисеев, начнет орать — я за себя не ручаюсь.
— А этот-то, которого засранцем нельзя называть, он как вас зовет? — полюбопытствовал я.
— А он никак не зовет. Просто — эй ты. Или — эй, старая.
Нет, точно, засранец.
— Вы чего пришли-то, господин следователь? — поинтересовалась женщина. — Вроде, у нас никого не убили, не зарезали.
— Мне надобно с Горбовым поговорить. Он в какой палате лежит, не покажете?
— С Горбовым? — наморщила лоб сестра. — Я по фамилиям-то не знаю, звать-то как?
Ешкин свет! А я ведь имя-то не спросил.
— Горбов, который с лбом проломленным лежит, а не с рукой или ногой, — начал объяснять я, но женщина меня перебила: — Так Лешка это, мастеровой. Только, ничего у него не пробито, а только разбито. И сотрясение мозга, так и то, небольшое. Виктор Петрович его сразу осмотрел, перевязку сделал. Отлежится, так денька через три домой и пойдет. В былое-то время две недели бы подержали, но местов у нас нет.
Ну Спиридон! Ввел ты меня в заблуждение. А я, как дурак, приперся, а мог бы сейчас какой-нибудь рассказик сочинить. А то и целую повесть, если повспоминаю.
— Помирать, значит, не собирается, — хмыкнул я. — А чего же он, хрюндель, полицейскому ничего не рассказал? А мы тут целое расследование затеяли.
Женщина, несмотря на усталость, расхохоталась, но быстро прекратила смех. Сказала:
— Так стыдно ему, вот и помалкивает.
— Натворил что-то, сам напросился, а ему в лоб засветили? — предположил я.
— Девка его приголубили. Маринка Павлова коромыслом по лбу дала, вот и стыдно, — пояснила сестра.
Забавно. От девки огреб. Но коромысло в руках женщины — страшное оружие. Хуже только пест, которым толкут зерно.
— Хотя бы за дело дала?
— Так вроде за дело, — пожала плечами матушка. — Лешка с приятелями Маринку подкараулил, когда она воду с реки несла, да снежком в нее залепил, нос разбил. Понятно, девка от боли да неожиданности на жопу брякнулась, вода разлилась. А тут еще кровь течет. Так Маринка от злости коромыслом и навернула. Потом, когда увидела, что лоб расшибла, да и сам Леха сознание потерял, испугалась, да убежала. А дружки Леху под руки, да к нам привели.
Хм… Вспомнилась вдруг картина Николая Фешина. Название подзабыл, но там изображена девушка, которая держится за разбитый нос, а рядом валяются ведра и коромысло. А напротив — великовозрастный урод, который ржет над своей шуткой. А, вроде и название «Неудачная шутка». Смотрел на картину и думал — девчонке бы взять коромысло, да этого козла по башке вдарить. Посмотрели бы, будет ему смешно или нет?
Еще Анька вспомнилась, которая в нос реалисту дала. Нет, есть ведь у нас женщины!