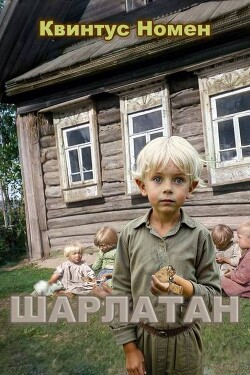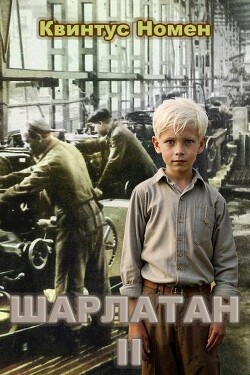Читать книгу 📗 "Шарлатан 3 (СИ) - Номен Квинтус"
— Ну, допустим, дома он тоже не сам строил… Он из бюджета хоть что-то на эти программы уже попросил?
— Нет.
— Тогда… тогда мы просто посмотрим, что и когда у него получится. Потому что, мне кажется, что он опять кому-то серьезно так наврал, а вот что он на самом деле хочет получить… мы посмотрим, время у нас еще есть. Хотя и не особо много…
Глава 9
В феврале началась обычная уже учеба в институте, а в области потихоньку стали запускаться выстроенные за прошлое лето и осень новенькие предприятия. И это — я имею в виду торжественные пуски заводов и фабрик — очень мне в учебе мешало. Потому что почти на каждое такое мероприятие приглашали меня (в качестве «почетного гостя»), и от некоторых приглашений было просто невозможно отказаться. От некоторых, но и таких было что-то многовато. Например, от визита на новенький (и совершенно артельный) не особо большой завод со скромным названием «Лимузин» в городе Семенове.
Завод был действительно небольшой, но его выстроили при поддержке лично товарища Киреева, да и продукцию он должен был выпускать не самую простую, причем к появлению которой я имел самое непосредственное отношение. Я парням с Павловского автобусного просто взял и нарисовал «современный автомобиль», который, по моему мнению, должен был заменить «ЗиМ-12». Ну нарисовал и нарисовал, а ребята картинку со всех сторон посмотрели, пошли с ней к Сергею Яковлевичу. Он тоже на нее посмотрел, потом посмотрел на стоящую под окнами «Векшу», на которой павловцы в Горький приехали. И произнес фразу, после которой все и завертелось:
— А что, мне нравится. Вот только денег у меня нет, фондов свободных тоже нет. Единственное, чем смогу помочь — так это с ивановцами договориться, чтобы вам нужный пресс изготовили сверх плана, так что если средства изыщите…
Средства павловцы изыскали довольно быстро, хотя и очень нетрадиционным способом. То есть все же традиционным: объявили очередной «коммунистический субботник» продолжительностью в пару месяцев и, работая по десять часов в сутки, изготовили полторы сотни «лишних» автобусов. Но совершено «голых», даже не покрашенных, и изготовили они их по заказу артели со скромным названием «Спецтранспорт». Дело в том, что даже в стране Советов люди постоянно, с упорством, достойным лучшего применения, умирали от самых разнообразных причин, и за год это проделывало довольно много граждан: например, за сорок девятый умерло два миллиона без четверти человек. И всех их нужно было похоронить — а вот эта артель на базе павловских автобусов изготавливала катафалки. Которые, между прочим, продавались по цене заметно большей, чем стоил новенький пассажирский автобус. Потому что там даже специальный кондиционер в салоне стоял (забавный такой, на воде работающий — но работающий) — и вот денежек от продажи «сверхплановых» катафалков как раз на постройку завода и хватило. Завод-то действительно маленький был: два относительно больших цеха, один маленький — там «отделочными работами» занимались, то есть сиденья делали, детали обшивки салона, прочие мелкие мелочи. А лимузины (которые по моему предложению окрестили «Чайками») собирали на стапелях: их в сборочном цеху сразу двенадцать штук разместили. И двадцать второго февраля как раз первый полностью собранный лимузин из этого цеха и выкатили.
На «мою» (то есть из прошлого будущего) «Чайку» он только цветом был похож: его тоже черным сделали. А так я даже не знаю, с чем его сравнить: на морде было четыре фары, капот был плоским, вроде как у ЗиЛ-114, а задница и особенно задние фонари все же именно как у «моей» Чайки были. И делался кузов этого чудища отечественного автопрома из трехмиллиметрового стального листа. То есть не весь, конечно, кузов, а только кабина, да и лист был не простой, а такой, какой в Кулебаках во время войны в основном катали. То есть броневой, а весь перед и багажник делались из простой холоднокатаной миллиметровой стали: эти детали должны были при аварии сработать амортизаторами. Но все равно махина получилась тяжеленной, и чтобы она могла передвигаться без посторонней помощи, в нее воткнули мотор, который на Маринкином заводе делался, правда, с ограничителем мощности, так что максимум, что моторчик на авто мог развить, составляло двести двадцать сил на восемьдесят восьмом бензине.
А если бензина было жалко, то туда можно было впихнуть и дизель павловский, который там делался в экспериментальном цехе: двенадцатицилиндровик на двести десять сил. Правда, дизелек шумел куда как круче бензинового мотора, но он и был лишь «необязательной опцией, поставляемой по спецзаказу». Я себе такой заказал…
Вообще-то броневой лист ставили вовсе не для того, чтобы получился бронированный членовоз: просто такой лист в Кулебаках катали для изготовления товарных полувагонов, а автомобиль из него делался потому, что из другого довольно длинный несущий кузов начинал гнуться. По расчетам должен был, но у меня с сопроматом отношения было сложные и сказать, насколько верно все подсчитали, я уж точно не мог. Но наверное люди все же считать умели, вон, а Павлово из той же стали каркасы автобусов делались — а когда разок применили другую какую-то сталь, автобусы «поплыли». Собственно, именно тогда и появилась артель «Спецтранспорт»: в катафалках народ все же толпами не ездит, а уже готовые «бракованные» автобусы нужно было куда-то деть. А теперь и новый интересный автозаводик появился, который «откусил» очень вкусный кусочек у ГАЗа: с появлением «Чайки» заказы на ЗиМ почти все были отменены. И на ЗиС, кстати, тоже…
А вообще с автомобилями в стране было, как бы повежливее сказать, интересно. С легковыми автомобилями: к пятьдесят первому году завод в Красных Баках вышел на производство тридцати тысяч «Векш» в год и теперь эти автомобильчике буквально «валялись на полках» магазинов по всей стране и народ за ними в очереди не становился. И машины «не залеживались на полках» исключительно потому, что изрядную часть их приобретали все же колхозы и разные госконторы. То есть госконторы их начали относительно массово закупать только тогда, когда в производство пошла «Векша» в варианте грузового мини-фургончика: оказалось, что в таком виде машинка идеально подходит для перевозки многих продуктов. Тот же хлеб в ней возить оказалось очень удобно, колбасу и сыр, кондитерские изделия — и сейчас треть машин именно в таком виде и продавались.
«Победы» тоже продавались без очередей, несмотря на то, что три четверти выпуска шло в разные государственные конторы: ну не хотел простой советский гражданин обзаводиться автомобилем. И уже процентов десять советских легковушек отправлялись на экспорт — дешево отправлялись, почти по себестоимости (а «Победы» вообще ниже этой самой себестоимости), лишь бы заводы не пришлось останавливать. Однако, насколько я был в курсе, планировалось выпуск машин в нынешнем году нарастить чуть ли не в полтора раза, так как народ-то в целом потихоньку богатеть начинал и прогнозировалось увеличение спроса. Как мне соседка сказала, товарищем Струмилиным прогнозировалось — а этот мужик, насколько я помнил из «прошлой жизни», правильные прогноза составлять все же умел. Я по этому поводу поговорил с Зинаидой Михайловной, узнал еще несколько ранее неизвестных фактов своей биографии (в частности, о близком своем родстве с земноводными) — но она все же пообещала «вопрос проработать». И — судя по тому, что теперь застать ее на месте стало практически невозможно — занялась этой проработкой вплотную.
Ну, пока «на земле» было особо делать нечего, занялась. Потому что как раз к февралю, точнее в первой половине месяца, закончились почти все начатые прошлой весной стройки. То есть закончились отделочные работы в домах, оборудование за заводах и фабриках было окончательно установлено, все коммуникации были запущены. А новое строительство в любом случае должно было начаться лишь в апреле, так что пока у нее было «свободное время». А скоро оно должно было уже совсем закончиться: все же в Госплане обратили, наконец, внимание на некоторые заводы КБО (который был специальным указом правительства преобразован уже во Всероссийский комбинат) и их, формально из подчинения Комбинату не выводя, было решено «за казенный счет» расширить и, соответственно, углубить. И тут больше всего досталось авиазаводу в Шахунье: заводик-то проектировался под производство сотни самолетов в год, а при некотором напряжении там и сто двадцать можно было построить — но машинка вдруг и «Аэрофлоту» понравилась, и — что в данном случае было гораздо важнее — военным. И завод уже Госплан решил расширить так, чтобы в год выпускать уже не меньше пяти сотен самолетов, причем расширение намечалось уже закончить к концу пятьдесят первого.