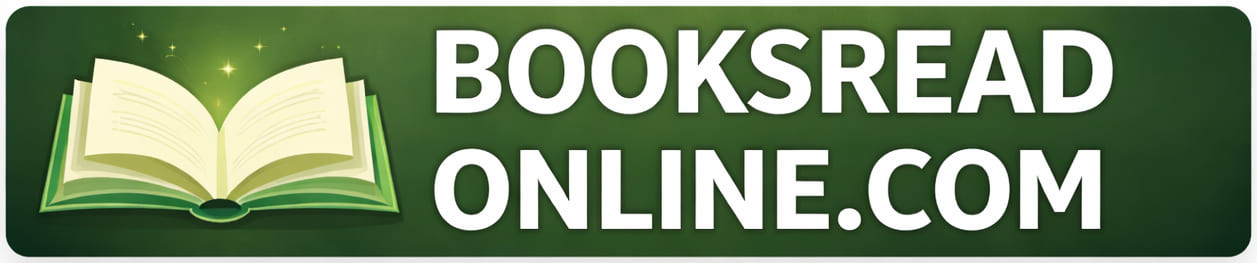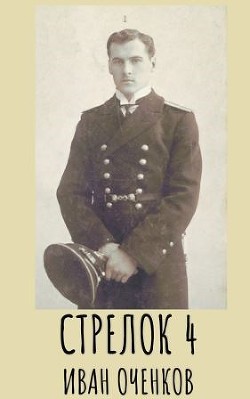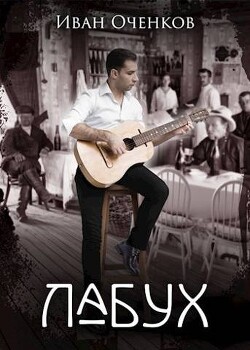Читать книгу 📗 "Аландская Звезда (СИ) - Оченков Иван Валерьевич"
И первым это сообщение принес ко мне, разумеется, Трубников.
— Простите, Константин Николаевич, — извиняющимся тоном заметил он, — Но я подумал, что лучше будет, если вы узнаете об этой эпистоле от меня.
Некоторое время мы молчали. Я пребывал в состоянии тихого бешенства, а директор РТА сочувственно помалкивал. Мы оба знали, что все написанное Кокрейном ложь. Ведь ни я, ни министерство двора, ни сам император до сих пор никак не комментировали смерть Санни. Официально она умерла от естественных причин, и лично я сделал все, чтобы ее имя не трепали ни в прессе, ни во время суда над Анненковыми. Конечно, шила в мешке не утаишь, и слухи ходили самые разные, но я к ним был совершенно точно не причастен.
— Зачем это ему? — с трудом сохраняя спокойствие, выдавил из себя я.
— Полагаю, как раз для этого. Он хочет, чтобы вы потеряли равновесие, а заодно и способность здраво мыслить.
— Но ведь этим он компрометирует и себя и свою страну.
— Скорее наносит упреждающий удар. Кое-где в Западной прессе уже появились статейки, связавшие внезапную кончину Александры Иосифовны и покушение на вас. Королева Виктория на подобные обвинения отвечать, конечно, не станет, а вот мистер Кокрейн, и без того имеющий весьма своеобразную репутацию, подходит для такого дела как нельзя лучше.
— Сукин сын!
— Желаете ответить?
— Нет!
— Как угодно-с.
— Ладно, Константин Васильевич, спасибо, как говорится, за сигнал. По крайней мере, буду знать, откуда ветер дует. А теперь ступай, мне одному побыть надо.
Первым побуждением было послать старому пирату картель с вызовом. Нет, не на пистолетах, хотя, наверное, следовало. Корабль против корабля. Броненосец против броненосца. Поднимем адмиральские флаги, сами на мостик и вперед! Но хорошенько поразмыслив, решил от этой затеи отказаться. Не хочу показывать, что послание Кокрейна меня задело, тем паче, что честного поединка от англичан все равно не дождешься. А вот в бою, которого так и так не миновать, глядишь, и встретимся. Там посмотрим, кто кого…
Близился вечер, когда ко мне в кабинет зашел адъютант и доложил о приходе Беклемишева. Юшков остался как бы ни единственным офицером флота, продолжавшим общаться с нашим жандармом. Возможно потому, что и сам участвовал вместе с ним в некоторых неподлежащих оглашению делах, но скорее по долгу службы. Ибо знал, что за чистоплюйство можно и вылететь…
— Что-нибудь случилось? — вопросительно посмотрел я на своего «опричника».
— Все сделано, — бесстрастно ответил тот. — В пересыльной тюрьме во время драки между заключенными…
— Не желаю знать подробностей! — покачал я головой. — А она?
— Днем позже.
Еще два месяца назад, узнав о вынесенном Анненковым приговоре, я решил, что они не заслуживают помилования, и отдал приказ их уничтожить. И вот сегодня Беклемишев доложил мне о его выполнении. Хотел бы сказать, что на душе стало легче, но нет. Этот груз мне нести теперь до самой смерти… Зато теперь есть гарантия, что эта тварь больше никому не навредит!
Не надо думать, что при очередном появлении эскадры союзников наши корабли снова укрылись в портах под прикрытием береговых батарей. Напротив, получившие во время предыдущих боев бесценный опыт русские моряки и на этот раз сумели доставить противнику немало неприятных минут.
Стоило неприятелю оказаться близ наших берегов, он тут же становился предметом самого пристального внимания вооруженных минами канонерских лодок. Другое дело, что англичане с французами тоже выучили преподанные им ранее уроки и держались настороже. Поэтому удачные атаки случались теперь гораздо реже.
Гораздо успешнее действовали наши «крейсерские» силы. Больше всех в эти дни отличился базировавшийся на Аландских островах «Громобой». Злые языки говорили, что командовавший им Шиллинг напрасно рискует, пытаясь оправдаться за то, что отделился от уходящего в Атлантику отряда корветов, после чего был вынужден вернуться на Балтику. Но как бы то ни было, ему удалось захватить несколько вражеских транспортов, в конце концов, заставив расслабившихся было союзников вернуться к практике конвоев.
Так в средине июля бравый капитан второго ранга перехватил в Датском проливе парусник «Малага», порт приписки Бристоль с грузом продовольствия для британской эскадры. К слову сказать, в числе прочего там находился запас редких вин, выписанных в свое время находящимся теперь в плену адмиралом Дандасом. Большая часть этой добычи была отправлена в Петербург, за что лично продегустировавший ее государь выразил удачливому рейдеру свое монаршее благоволение и послал драгоценную табакерку в подарок.
Следующий рейд оказался бесплодным, более того, Шиллинг сам едва ушел от преследовавших его французских и английских фрегатов. Зато, когда принявший командование объединенной эскадрой Кокрейн повел ее в Финский залив, «Громобой» вновь сумел отличиться, перехватив еще два транспорта с углем и один с боеприпасами.
Еще одного угольщика, на этот раз французского, взял на абордаж пароходо-фрегат «Доблестный» под командованием капитан-лейтенанта Кострицына. Правда, из-за преследования противником увести его не получилось, поэтому парусник пришлось сжечь. Были и другие успехи, перечисление которых заняло бы слишком много времени и места. Количество же обычных перестрелок и погонь, не приведших к сколько-нибудь значимым результатам, просто не поддается учету.
Конечно, на фоне действий отряда Истомина число захваченных и уничтоженных неприятельских транспортов может показаться ничтожным. Однако следует учесть, что на Балтике в тот момент действовали превосходящие силы союзников и каждый выход в море грозил нашим немногочисленным корветам и фрегатам серьезной опасностью.
Пока легкие силы гонялись друг за другом, мы продолжали лихорадочно готовиться к грядущим сражениям. Экипажи канонерок и малых пароходов усиленно тренировались применению минного оружия. Реконструировались имеющиеся и строились новые батареи. В первую очередь, конечно, в Свеаборге.
По довоенным меркам, прикрывающая финскую столицу крепость имела более чем солидное вооружение. 565 пушек, 200 из которых были бомбическими. Собственно говоря, именно поэтому Пламридж и Парсеваль-Дешен в прошлом году не решились атаковать его, отправившись искать более легкую добычу в Бомарзунде. И, в сущности, были совершенно правы.
Увы, неумолимый прогресс за какой-то год одним махом перевел первоклассную крепость в разряд устаревших. Даже самые дальнобойные орудия нашей крепости могли стрелять в лучшем случае всего на 1200 саженей или 2,5 километра. Между тем новейшие британские пушки с ланкастерской нарезкой посылали свои бомбы, как минимум, вдвое дальше.
Правда, впоследствии выяснилось, что реальная эффективная дальность их лишь немногим превышает полторы тысячи саженей, или 3620 ярдов (3310 м). Не говоря уж о том, что малейшая несоблюдение размерений при изготовлении замысловатой формы снарядов могла привести к заклиниванию и разрыву в канале ствола. Да и если все было идеально, точность все равно оставляла желать лучшего. Но при всем при этом таких орудий у противника было много, а вот у нас…
Готовясь к отражению врага, мы для начала устроили несколько новых батарей, для чего использовали практически потерявшие свое боевое значение парусники. В проходах между островами поставили превращенные в плавучие батареи линейные корабли «Россия», «Святой Андрей» и «Великий Князь Михаил». Пушки с обращенного к берегу борта были сняты и установлены на берегу. Таким образом, артиллерия крепости получила почти три сотни дополнительных стволов, но проблему дальности это не решило.
Для того чтобы хоть как-то выйти из положения, на палубах лишенных мачт и прочего такелажа кораблей поставили по две 48-фунтовых пушки на поворотных станках новой конструкции, что позволяло увеличить сектора обстрела по вертикали и дальность выстрела. Так, при максимально возможном возвышении в 18 градусов, бомбы летели на 1410 саженей (около 3 км)