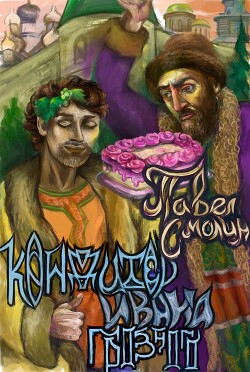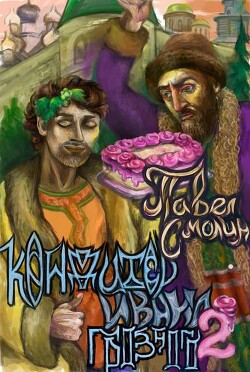Читать книгу 📗 "Кондитер Ивана Грозного 4 (СИ) - Смолин Павел"
Я развел руками — не признав поражение, а с видом: «сам же все понимаешь»:
— Кровь — не водица. Палеологи под конец своего могущества долги делать ох любили! Рассказывали тебе, как я в самом начале кузнецу задолжал?
Иван Васильевич смеялся долго и сочно, и я порадовался тому, что разговор идет легче, чем я ожидал.
— Да уж, истинный Палеолог! — вытерев слезинку, фыркнул он. — Только на Русь приехал и сразу же штаны мелкому воришке задолжал!
— Смех и грех, — на этот раз я развел руками с видом «сам не понимаю, как так вышло» и тихо попросил. — Ну ее, Государь, эту Литву. Торговлишку тебе Сигизмунд какую хошь теперь обеспечит, денег в казне прорва, люди устали, Русь собрана — поехали домой? Обещаю: через десять-пятнадцать лет хоть до самой Англии сходим, да так, что только клочки от нехристей полетят.
— Огонь ты мне за три года обещал, а сделал менее чем за половинку, — заметил Царь.
— Так то просто смесь отыскать нужно было, — пожал я плечами. — Смешивать — это всегда быстро. А теперь нужно много лет вгрызаться в камни, плавить и ковать металл, мастеровой да ученый люд взращивать, пар водный в трубы загонять да приручать то единственное, что меня страшит.
— Молнию, — задумчиво кивнул Иван Васильевич, и у меня начала зарождаться надежда на то, что меня услышали. — Молния, Гелий, это хорошо, — поднял на меня взгляд. — Сейчас Сигизмунда додавим, а дальше видно будет. Да и до весны времени полно, успеешь с Андрюшкой наиграться. Я тож по своим знаешь как скучаю? — протянул мне утешительный пряничек.
Но так и не родившаяся надежда сменилась таким же чувством бессилия, как тогда, в последний день жизни рода Шуйских. Все решил заранее Иван свет Васильевич, и послушать меня согласился чисто показать: насквозь тебя вижу, Гелий.
— Послал же Бог Государя, — вздохнул я.
— Иных не видно, — парировал Царь. — А посему не забывайся! — бросил в меня пряником.
Я поймал и поклонился:
— Благодарю за милость и угощение, Государь. Дозволь на Литву не ходить.
— Служишь — стало быть ходить куда скажу обязан, — Иван Васильевич начал раздражаться. — И теперь, Гелий, ступай к себе.
— Слово и дело Государево? — попросил я еще попытку.
— Слово и дело Государево — у Государя, — откинувшись в кресле, он придавил меня взглядом. — Иного бы палками велел гнать, а тебе добром велю.
— В ногах могу поползать, но не поможет же, — вздохнул я.
— Не поможет, — подтвердил Государь с начавшими раздуваться ноздрями и проявляющимся на щеках румянцем. — В третий раз волю Государеву попирать будешь?
— Может и к лучшему оно, — хлопнув ладонями по коленям, я поднялся из кресла. — Чем скорее дитятко из яселек со своими солдатиками выйдет, тем быстрее взрослые дядьки с терциями ему объяснят, кто главный на карте мира.
— Я тебе покажу «терция»!!! — взревел он, вскочив на ноги. — К католикам бежать вздумал?!! — вскрыл свою параноидальную сущность и потянулся к посоху.
— К волхвам в дубравы древние! — попытался я «выехать» на откровенном абсурде.
— Да ты язы-ы-ычни-и-ик! — нараспев, словно обрадовавшись, расписался в неадекватности Государь. — На-ка тебе Перуна! — отработанным годами движением попытался приголубить меня посохом.
Я увернулся.
— Тварь скользкая! — обрадовался еще сильнее Царь. — А на-ка тебе Макоши! — ударил по горизонтали.
Опыт.
Не желая терпеть «поколачивание», я перехватил навершие. Тяжелое дерево больно ударило по рукам, но еще тяжелее был крик Ивана Васильевича:
— Ах ты, лукавый, презлым заплатить за предобрейшее посмел⁈
Мощь культурного кода была столь велика, что я не выдержал и заявил:
— Ах я, бродяга, смертный прыщ!
Хватка от смеха разжалась, Иван Васильевич вырвал посох, отбросил его в сторону и пошел на меня, огибая стол и закатывая рукава:
— Ох и поучу я тебя сейчас, шута горохового!
А я вот возьму и отвечу!
— Шапку сыми, назовись князем Ивашкой, и посмотрим, кто кого с Божьей помощью научит, — закатал рукава и я. — Не бить же Государя Всея Руси.
Пренебрежительно фыркнув, Иван повелся на простенькое «слабо», снял бархатную шапочку и двинулся на меня:
— Ужо угостит тебя князь Ивашка, данайское семя!
Я вместо ответа сильно ударил временно десакрализированного Государя в печень. Много ли попыток себя ударить встречает за жизнь Августейшая персона? Не розгами али ладошкой отцовской по заднице, а вот так, по-простому и от души? Неудивительно, что он даже не успел среагировать.
— Кххх… — растерявшее силу и ярость монаршее тело согнулось пополам, ладонь его метнулась к боку, но до цели не добралась: боль успела расползтись по всему организму обжигающей волной.
Изо всех сил пытаясь сделать вдох, Царь на подкашивающихся коленях сделал шажок, еще один, и я подхватил его, бережно усадив на лавку у стены. Пара мгновений, и Иван Васильевич со свистом втянул воздух, выдохнул и задышал как выброшенная на берег рыба. Взяв себя в руки, он посмотрел на меня налитыми кровью, но растерявшими гнев глазами. Посмотрел так, словно видит впервые.
Может зря я вот так? Ценен Грек, да вон чего себе позволил. Палеолог, конечно, не шибко-то и обидно, но может его на всякий случай того?
— На всякую силу сила поболее найдется, княже, — решил я доиграть партию до конца. — Не я тебя ударил, сам понимаешь, а Он! — перекрестился на Красный угол, поднял с пола Иванову шапочку, опустился на колени и склонил голову. — Прости мне дерзость мою, Государь! Не корысти ради, не из властолюбия и не из обиды сие — из одной лишь правды!
Иван молча взял шапку, помолчал — у меня немножко зачесалась беззащитная шея — и вынес вердикт:
— Ступай. Молиться буду.
Софийский собор нес в себе следы долгого пребывания древнего города под католической рукой: потемневшие фрески, старенькая побелка, и только купола сияли как положено — вот в них все небогатое финансирование и уходит. В них и в спрятанные под рясами сумы: Вера-то не материальная, а служители Церкви — вполне.
Запах ладана, приглушенные краски, играющие на золоте лучи света, привычные слова и интонации служителей — только здесь, под сводами Софии, я по-настоящему прочувствовал, насколько это все родное и в одночасье перестал считать Киев завоеванным. Это — воссоединение веками скрепленных единой верой земель, и Русь ныне стала такой, какой она должна быть. Что там Царьград? Всего его золото не хватит, чтобы купить главное — правильность.
Гроб с телом Ионы Протасевича стоял перед солеей. Лицо его казалось спокойным и одухотворенно-снисходительным, словно он знал и понимал больше оставшихся среди мирской суеты нас.
Рядом, в полном архиерейском облачении — старший игумен Софии Гавриил. Возможно мне показалось, но на лице этого благообразного, не тощего и не толстого, не высокого и не низкого, с идеально «средней» по всем параметрам седой бородой батюшки помимо приличествующей ситуации торжественной скорби читалось облегчение.
Не потому что Иона помер, прости-Господи, а потому что сидящему на своем очень почетном месте Гавриилу не нужно заниматься большими кадровыми вопросами: на второй день нашего пребывания в Киеве (с цветами и песнями «освободителей» встречали, а как иначе?) начальство вызвало на ковер киевского Митрополита, и теперь городу нужен новый.
Ох и собачья должность это теперь! Головной боли и рисков столько, что Митрополитов наряд и прилагающееся к нему положение растеряли привлекательность. На данный момент Киевское духовенство подчинено Цареграду. Государь собственным патриархатом озаботиться успел, а киевлянам придется очень долго, с кровью (не удивлюсь если буквальной), спорами, интригами и высокой риторикой «переключаться» на новый центр силы. Уже одно это превращает будущего Митрополита в человека, которому судьбой предначертано стать политическим самоубийцей — да, Москва уберечь попытается, и открыто вякать на ее ставленника никто не отважется, но большая, столетиями формировавшаяся структура — это такое болото…