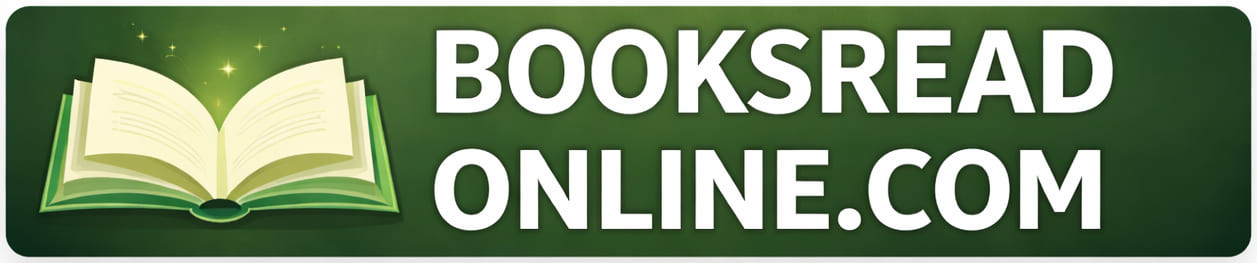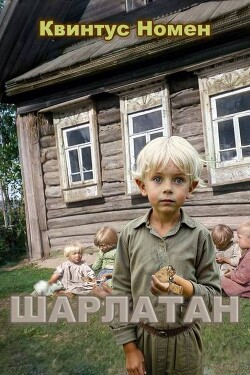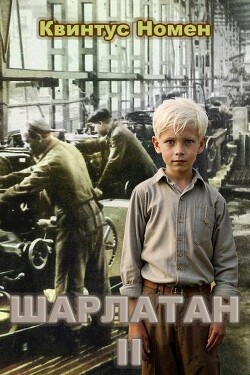Читать книгу 📗 "Шарлатан 3 (СИ) - Номен Квинтус"
Причем шанс этот был совсем не иллюзорным: чтобы заводы новые заработали, им требовалась энергия — и железнодорожники в Юже стали ударными темпами строить и новую электростанцию. Турбины для нее делались в Калуге, котлы — в Ворсме (откуда я об этой стройке и узнал), а генераторы… Оказывается, у железнодорожников были целых два завода, на которых как раз электрические генераторы и делались. Для тепловозов, но там и «для быта» оказалось несложно сделать трехмегаваттные механизмы. И так как производственные мощности у МПС были «достаточными», то поставить в городке электростанцию с шестью такими генераторами для них оказалось совсем просто. Ну, если котлы в Ворсме в срок сделать успеют и калужане с турбинами не подведут — но «обижать» железнодорожников точно никто не хотел. Тем более, что они были готовы заплатить за поставленные машины подороже, чем указывалось в ценниках заводов.
Кстати, это тоже было в законе предусмотрено, я имею в виду «сверхнормативные выплаты» — но только как премия за «сверхплановую продукцию» или «за выполнение заказов досрочно». А тут обе опции получилось применить, вот народ и старался. Впрочем, народ везде «старался»: завод в Карачеве к концу мая выдал уже восемь вычислительных машин. Пока — в «минимальной комплектации», но там рабочие только приступили к освоению совершенно новой для них деятельности. И все старались «освоить» ее как можно быстрее, ведь в городе жилищное строительство пока что вел только этот завод, а на заводе жилье выделялось работникам исключительно «при выполнении плана», так что достичь «плановой мощности» в две машины еженедельно там теоретически могли еще до конца года.
Но могли и не достичь, так как в достатке туда поставлялись пока что лишь лампы-«желуди» с Горьковского завода и металлизированный текстолит для печатных плат. То есть железо для корпусов и краска для того, чтобы эти корпуса красить, тоже имелась в достатке, а вот с радиодеталями было хуже. Плохо было с прецизионными сопротивлениями и очень плохо — с конденсаторами. Для машин были нужны керамические конденсаторы небольшой емкости, а в СССР их хотя и делали, но с большими трудностями и в очень маленьких количествах. Так что их большей частью поставляли в страну дружественные немцы, но и их производственные возможности были все же ограниченными, а желающих «употребить» такие конденсаторы в своих поделках в СССР было очень много. Насколько я слышал, где-то у нас новый завод для такого производства строился, но было совершенно непонятно, когда он заработает и подойдет ли его продукция для вычислительных машин. Потому что то, что уже делалось, для наших целей вообще не годилось: параметры сильно плавали (в том числе и по температуре), да и откровенного брака делалось немало.
С сопротивлениями тоже было неважно, но с ними хоть перспектива была понятна: нужные сопротивления делались в том числе и в Горьком, на специализированном заводе, а последним делом товарища Киреева на Нижегородской земле было как раз расширение этого завода раза так в четыре. Последним, потому что Сергей Яковлевич «убыл на повышение», а на его место поставили какого-то товарища Ефремова — но в том, что завод будет уже летом выпускать сопротивлений достаточно, никто теперь не сомневался. Только ведь и «лето» — понятие растяжимое.
Зато в мае окончательно заработал автобусный завод в Камышине. То есть он еще зимой потихоньку заработал, а к концу мая там автобусы стали собирать уже на конвейере, и выпускались они теперь по тридцать штук в сутки. Что сильно облегчило жизнь горьковчанам: в город сразу две сотни новеньких автобусов поставили. Но и это было лишь «приятным дополнением» к транспортной системе города: первого мая была запущена ветка метро от Московского вокзала до автозавода, а десятого — от площади Минина до Мызы. Мне метро оказалось вообще без надобности, хотя в Нагорной части одна станция называлась «Университет» и выход из нее как раз напротив главного здания университета и находился. Но следующая станция была уже на площади Горького, и мне оттуда пешком до дома было идти дольше, чем от университета. К тому же Ю предупредила, что мне общественным транспортом пользоваться вообще не стоит, потому что кое-кто мог в таком транспорте мне причинить некоторые мелкие неприятности вплоть до летального исхода. Но если все же определенную осторожность соблюдать, то… то я ее соблюду.
Потому что среди моих «откровенных врагов» были враги, скажем, весьма опасные. Опасные тем, что «в лицо» их даже выяснить не получалось. Например, меня люто ненавидели некоторые (почти все поголовно) руководители Армении, и у них для этого были определенные основания. Когда в пятьдесят третьем Струмилин обратился к Зинаиде Михайловне с просьбой «помочь в восстановлении» этой республики, я для нашей суровой тетки составил «памятную записку», с которой она пошла к Струмилину и объяснила ему, почему никакой помощи ни при каких условиях Армения от нас может и не ждать. А Станислав Густавович все изложенные в записке факты перепроверил и переправил ее уже Сталину — и все разговоры о «восстановлении республики» мгновенно прекратились. Оно и понятно: там именно «восстанавливать» было нечего: во время войны в Армении не было разрушено ничего. А во-вторых… во-вторых тоже было много интересного, и даже Ю (вероятно, по просьбе «вышестоящих товарищей») меня спросила:
— Ты, говорят, очень много всякого про Армению написал. Мне вот интересно: откуда ты все это знаешь?
Понятно, что я не стал ей рассказывать, что все это я узнал «в прошлой жизни» и уж тем более не стал говорить откуда. Когда я работал в Заокеании, мне довелось выполнить небольшую работу во Фресно — столице «американской Армении». Там был забавный институт, занимающийся исключительно историей армянского народа, и у них как раз появились технические средства для перевода огромного массива документов в цифровую форму и американские армяне решили «извлечь из массива достоверную информацию». Ну, они извлекли, кое-что и я запомнил — просто потому, что от таких данных у меня буквально шок случился. Там много было именно о военном времени, и больше всего меня тогда удивило, что больше восьмидесяти процентов армян (из тех, кто в Армении родился, ко всем армянам это не относилось вообще) при попадании в плен радостно бежали записываться в «армянский легион» вермахта. Ну и еще кое-что по мелочи показалось мне тогда интересным: например, что в сорок первом, когда в стране были заморожены все стройки, не относящиеся к военному производству, в Ереване спокойно продолжили постройку автомобильного моста. И на строительство его за время войны потратили государственных средств, которых было бы достаточно для изготовления танков на целую танковую дивизию.
Железные дороги страны задыхались от перегрузки, а армянские товарищи везли в Ереван базальтовые блоки для отделки опор моста — и Иосиф Виссарионович решил уточнить, кто именно этим занимался. И даже уточнил, после чего несколько армянский фамилий исчезли из «публичного пространства» — но, по словам Ю, кто-то наверху разболтал об первоисточнике информации. И она даже думала, что знает, кто именно разболтал…
На самом-то деле я особо ничего нового даже не сообщил, все это было довольно широко известно — просто я кое-какие данные собрал вместе и «показал в нужном свете», а в результате у меня образовались «неизвестные враги». Пока вроде бы образовались далеко, так как Горьковская область почти целиком занималась оборонкой и МГБ любого, кто хотя бы собирался сюда приехать, тщательно проверяло. И особенно проверяло «армянских армян»: даже в командировку в область им было невозможно приехать без того, чтобы МГБ их не проверило на наличие родственников среди дашнаков или легионеров: именно в Армении такие родственники были больше чем у каждого десятого, а кто такие дашнаки, тот же Лаврентий Павлович очень хорошо понимал.
И это было крайне неприятно — с одной стороны. Но с другой стороны, все время ходить и думать, что сейчас тебя кто-то бросится убивать, смысла не имеет: если за дело возьмутся профессионалы, то им сначала нужно будет пройти сквозь других профессионалов вроде Ю, а это, как я понял, будет очень непросто. Тем более непросто, что по некоторым намекам «любимой» она отнюдь не одна тут работала. Так что я предпочитал заниматься своими делами.