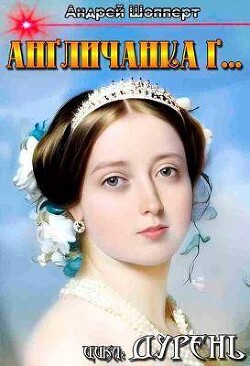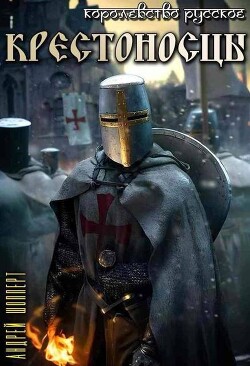Читать книгу 📗 "Ливония (СИ) - Шопперт Андрей Готлибович"
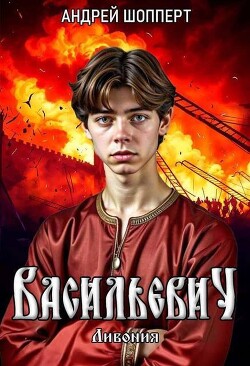

Краткое содержание книги или сюжет книги - Ливония (СИ) - Шопперт Андрей Готлибович
Прошло десять лет и Юрий Васильевич пытается чуть подправить события и без того пока играющие в пользу России.
Ливония
Глава 1
Событие первое
«Если бы супруги не жили вместе, удачные браки встречались бы чаще».
Фридрих Ницше
Князь Юрий Васильевич Углицкий проснулся рано утром от того, что рука у него затекла. Сильно затекла. Прямо онемела. Перекрыли ему кровоток к пальцам. Не иначе происки врагов? Он хотел было перевернуться на другой бок и освободить зажатую правую руку, но, открыв глаза, увидел причину. На руке покоилась рыжая-прерыжая голова Ульки, и голова эта сладко посапывала в две дырочки. Первые лучики света, пробившись сквозь новенькие стёкла в окне, падали на чуть курносый носик, высвечивая редкие маленькие, но всё же заметные веснушки. Одна ресничка рыженькая оторвалась от товарок и лежала на этом носике милом. Жалко стало Юрию тревожить жену. Попробовал чуть повернуть руку, не высвобождая из-под головы Ульки. Но жена почувствовала и плотнее прижалась к нему, совсем лишив возможности двигаться.
Княгиня была на седьмом месяце беременности и большой уже живот упёрся сильнее в бок Юрию Васильевичу, согревая его. Дурацкая привычка эта у жены появилась в последнее время. Вот так подкладывать под рыжую свою головку его руку. Удобнее же на подушке? Нет, пристроится на руке и сопит в ухо. Не слышно, глухой ведь, не произошло чуда, не появился слух божьим соизволением — это ладно, но дыхание ухо-то щекочет. Привычка появилась у княгини вместе с пузиком. Беременность проходила тяжело. Ульку мутило постоянно и рвало довольно часто, особенно в первые месяцы. Вот стала таким образом утешения искать. Ляжет на руку прижмётся к мужу и засыпает.
Беременность не первая. Третья. И все три тяжело княгиня переносит. И никакие отвары бабок — знахарок и настоящих дипломированных медиков не помогают. Ну, ничего, не долго уже осталось. Через пару месяцев срок придёт.
Как и ему. Нет, не рожать. Не сможет он присутствовать при родах. Ему срок придёт на войну очередную идти. Судбищенская битва на носу. Тоже два месяца осталось. Точных чисел Боровой не помнит, но в конце июня 1555 года. А сейчас 30 апреля, вон, за окнами, начинается. Чтобы успеть и оказаться в тылу у хана Девлета I Гирея нужно уже выдвигаться вскоре со своим полком. В сельце Судбище (Сторожевое) на реке Любовша Боровой был, когда преподавал в университете, с экспедицией археологической. Ездили со студентами на практику к этому селу и пытались найти следы этого сражения. Металлоискатель им выдали… два даже. И они время от времени попискивали противно. Но ничего не нашли. Ничего из шестнадцатого века. И уже в 2020 году узнал Артемий Васильевич, что не там немного искали. Дайверы нашли несколько тысяч железных предметов на реке Гоголь, куда по предположения историков их снесло весенними половодьями из окрестных оврагов. Рядом совсем, чуть бы тогда севернее искали… Хотя, нашли ведь в реке. Боровой тогда не поленился сел в свою Приору старенькую и проехал эту пару сотню километров, чтобы с дайверами пообщаться. Мужики оказались разговорчивыми и гостеприимными, всё что могли показали и рассказали.
Так что теперь он точно знает, где произойдёт финальное сражение, после того как сбежавший хан решит вернуться и побить наглых руссов, захвативших его обоз. Если историкам верить… ну, всегда свои потери все занижали, а чужие увеличивали те, кто про битвы писал, но если верить про битву эту, то в обозе ханском было шестьдесят тысяч коней, двести аргамаков и сто восемьдесят верблюдов. Верблюды — это интересно. Да и двести аргамаков хороший куш. Зачем Девлету Гирею с собой за тысячу с гаком вёрст, или даже за все две с гаком, если от Бахчисарая считать, тараканить двести аргамаков вопрос, ничего, скоро выяснится. А раз обоз был такой богатый, то и в самом войске, шестидесятитысячном, по словам летописцев, было добра не мало. Ещё ведь и артиллерия с янычарами где-то затерялись среди страниц летописи. Хотелось князю Углицкому эту битву чуть переиграть. Урон побольше Девлет Гирею нанести, а возможно и убить, либо пленить. После чего отпустить, отрубив все пальцы и уши отрезав. Пусть озвереет и гонит, и гонит на подготовленные позиции своих пастухов, пока они не кончатся. Справились же в битве при Молодях. Почему не устроить ему такую штуку на пятнадцать лет раньше.
К событию этому князь Углицкий готовился два года. И главное тут не войско и не оружие. Даже не порох со всякими минами. Дудочки. Главное — это брёвна. Толку-то, если просто побьёшь татаровей, у них народу в степи много. Бабы опять ещё нарожают, хотя какие у них бабы… у них ханумы всякие разные. Нужно закрыть дорогу с этой стороны на Русь. В реальной истории Иван Грозный через десять лет после этой битвы воздвигнет на Оке город — крепость Орёл. «Того же лета повелением государя царя и великого князя Ивана Васильевича всея Руси поставлен бысть город на поли на реке Орлее». Так и напрашивается совершить это сразу после поражения крымцев у Судбищ. И есть замечательный образец для подражания. В этой истории взятия Казани в 1552 году не потребовалось. Она с 1545 года в составе России. А вот городок — крепость из прошлого усилиями Юрия Васильевича перекочевал в эту реальность. На берегу реки Свияги рядом с Казанью усилиями дьяка Разрядного приказа Ивана Выродкова в 1551 году всего за месяц возведена деревянная крепость Свияжск. Юрий Васильевич брата уговорил повторить эту грандиозную стройку. Мало ли опять какая прокрымская партия в Казани победит или того хуже, вверх по Волге очередной Стенька Разин попрётся. Иметь крепость гораздо лучше, чем её не иметь.
Выротков (Выродков) нашёлся легко. Фамилию его Боровой, ясное дело, не помнил. Нельзя всего помнить. И особенно забываются именно фамилии. Зато помнил запись в Дворцовой тетради, которая перекочевала в учебник Истории. Там говорилось, что товарищ сей — глава его дворцового управления: «Дворецкой Углецкой Иван Григорьевич Выротков». Юрий Васильевич его ещё в 1547 году из Углича после пожара московского изъял и к себе поближе подвинул. Отстраивал Иван Григорьевич немецкую слободу, сгоревшую всё же в пожаре, как Юрий не старался его предотвратить, в Москве и сам Кремль, в этот раз почти не пострадавший в пожаре. Чтобы всё это больше не горело строили Кукуй-городок из самана и обкладывали по наружи кирпичом. И крыши черепичные над ними городили. Саман тепло держит внутри хорошо. Дома получились хоть и с толстыми стенами, но зато очень тёплые.
Прокопали каналы под руководством дьяка Выроткова от речки Кукуй до Яузы, построили настоящие каменные мосты, через Яуза два и один через её приток Чечёру. Даже пожарный пруд в центре Кукуя организовали, направив в него речушку Кукуй, при этом облагородив его, засадив вокруг всё дубками молодыми. Парк эдакий со скамеечками и ротондами, где на столиках всегда вырезанные из камня шахматные фигуры стоят. Мутеры киндеров выгуливают. Почтенные профессора и негоцианты в шахматы играют. По дорожкам разгуливают в алой форме полицейские, чтобы ни-ни… Сейчас, по прошествии шести лет, Кукуй разросся до города настоящего. Больше двух сотен домов и тысячи жителей. Кукуй это речушка приток Чечоры (или Чечёры), которая чуть дальше в Яузу впадает, вот на этом треугольнике приличном, огородив всё это деревянным пока забором, городок и воздвиг для иностранных специалистов первый русский инженер градостроитель Иван Григорьевич Выротков. Теперь же от него требуется целый город Орёл построить. На том месте, где и должен он находиться. И по той же технологии, что и при строительстве Свияжска. Срубить и собрать башни и стены ниже по течении Оки, пронумеровать, разобрать и сбив в плоты с помощью лодей и бурлаков поднять вверх по Оке эти будущие стены и башни. Сейчас у Калуге под пять сотен плотников и приданных им воев уже рубят будущий Орёл. От калуги до Орла… до того места, где его начнут строить после обрезания ушей крымскому хану, вёрст двести. Дней за десять потом подтянут, да ещё месяц — полтора на стройку, должны успеть к осени.