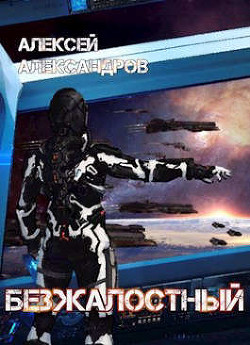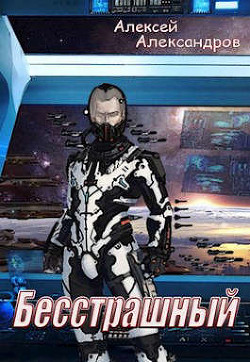Читать книгу 📗 "Невьянская башня - Иванов Алексей Викторович"
Завод для Акинфия Никитича — да и не только для него — был живым. Был огромным и сложным зверем, созданным из брёвен, кирпича и железа. Вода была его кровью, лари — его жилами, машины — его мускулами. Зверь дышал в глубине фабрик воздуходувными мехами. Огонь печей и горнов был его душой. Он, Акинфий Демидов, сотворил этот завод из мёртвой материи и оживил его, как бог сотворил из мёртвой глины человека и даровал ему жизнь. И Акинфий Никитич любил свой завод — все свои заводы, — как бог любил человека, всех людей, и ничто с ними не происходило без его воли.
Акинфий Никитич спустился с плотины по крутой лестнице возле рудоподъёмного моста; приказчики спустились за хозяином. В теснине между деревянной стеной доменной фабрики и откосом плотины было сумрачно и промозгло, лежал длинный сугроб. Акинфий Никитич бросил гневный взгляд на приказчика Лыскова — тот отвечал за домны.
— Не успели убрать, — всё поняв, сказал приказчик. — Моя вина.
Снег таял от тепла доменного производства и потихоньку подмывал забутовку откоса. Непорядок.
Акинфий Никитич обогнул дощатый пристрой колёсной каморы, в которой скрипело и лязгало — там вращалось водобойное колесо.
От распахнутых ворот литейного двора через весь завод пролегала главная улица. Она была вымощена плитняком, но её то и дело пересекали полосы из чугунных решёток: это были канавы, по которым в Нейву стекала отработавшая своё вода. Повсюду на улице сверкала чёрная слякоть, под ногами чавкало. Акинфий Никитич ступал по грязи с тайным удовольствием. Грязь — она от жара, копоти и суеты большой работы. Так и должно быть зимой. Это же завод, чёрт возьми, а не царские променады в Петергофе!
Справа и слева, как в большом городе, возвышались домины фабрик. Их выстроили на голландский манер: стены — остовы из могучих брусьев, и отвесных, и уложенных плашмя, и загнанных враспор наискосок или крест-накрест. Пустоты меж брусьев забили досками, доски обмазали глиной и побелили, но они давно уже побурели. Окна и ставни. Большие ворота. Шатровые крыши со снегом, обсыпанным сажей, а на гребнях крыш — другие шатры с просветами. И серый дым над головой, размытый синевой неба. И неумолчный шум завода вокруг — будто облако: раскатистый и просторный стук молотов, звонкий лязг из раскрытых ворот, скрип водобойных колёс, плеск воды, глухие голоса мастеров в озарённых огнём глубинах фабрик.
Акинфий Никитич шёл по заводской улице, приказчики — за ним, а навстречу им двигались работники: на тачках катили короба с углём и шихтой, волокли в тележках обрубки чугуна и полосы железа. Они были заняты делом, напряжены, и никто не останавливался, не ломал шапку перед хозяином. Акинфию Никитичу это нравилось: он помнил себя молотобойцем в отцовской кузнице. Он уважал это напряжение труда, ценил скупые и сильные движения. А поклоны отвешивать — это в церкви… Хотя Акинфий Никитич улавливал сходство завода и храма. Просто в храме в каждой его мелочи, в каждом иконном лике, в каждой цате, подвешенной к окладу, ощущался Святой Дух, а на заводе в каждой вещи, в каждом её положении и в каждой взаимосвязи заключались мысль, расчёт и опыт.
Они дошли до окраины завода, до проездной башни в деревянной стене острога. Главная заводская улица ныряла в проезд и за башней вливалась в Торговую улицу, которая через мост вела на базарную площадь. Торговая улица отделяла острог от Тульской слободы. У башни лепились поторжные кузницы, амбары с готовым железом, угольные сараи и рудоразборный двор.
Акинфий Никитич развернулся возле «кобылины» — прочно вкопанного сооружения из брёвен; здесь на крюках больших пружинных весов-контарей взвешивали железо, доставленное с фабрик. Если железо соответствовало наряду, его убирали в склады-магазейны: там оно хранилось до отправки на чусовские пристани. Акинфий Никитич хлопнул Степана Егорова по плечу:
— Рад бы придраться, Егорыч, да пока не сыскал промашек, — признался он. — Завод в работе — что невеста под венцом… Благодарю, железны души!
Приказчики с облегчением заулыбались. Акинфий Никитич улыбнулся в ответ. Хорошие у него помощники. Морды вон какие: усы и бороды в подпалинах, на скулах ожоги от раскалённой трески, а в глазах — спокойствие правоты. Мужики упрямые, непьющие, честные. Злые к жизни. Их будто бы здесь же под молотами и отковали. Такие ради дела на всё готовы — и убить, и сдохнуть. Акинфий Никитич и вправду гордился своими приказчиками — точнее, гордился своим умением добывать редких людей к своим заводам.
— Обратным путём через фабрики двинем, — сказал Акинфий Никитич.
— А Царь-домну посмотрим? — наконец высунулся Васька, племянник.
— Тебя, Василий, мне вообще по уму-то прогнать отсюда надо, — ответил Акинфий Никитич. — Нечего тебе тут разнюхивать на моём заводе.
— Я ж учусь у тебя, дядюшка! — обиженно пояснил Васька.
Акинфий Никитич в бессилии махнул на него рукой: сгинь с глаз долой!
* * * * *
Осень, зиму и весну доменная печь работала без остановки, а молотовые фабрики в праздники получали передышку — так требовали Синод и Берг-коллегия. Общим отдохновением, конечно, были Рождество и Крещение, а по трём кричным переделам Невьянского завода — Воздвижение, Введение и Благовещение. В каждой фабрике имелся кивот со своей праздничной иконой, и фабрики, чтобы не путаться, называли в честь праздников.
Савватий не пошёл на плотину встречать хозяина вместе с другими приказчиками — свиделись уже. Пока Акинфий Никитич и приказчики осматривали завод, Савватий на Благовещенской фабрике менял зыбки — большие коромысла, которые рычагами-очепами качали дощатые мехи. Справиться надо было поскорее, чтобы не остыли горны.
Как всегда, Савватию помогал Ванька, подмастерье. Сначала они разъединили всё устройство, и освобождённый мех под тяжестью своего груза в протяжном выдохе закрылся, как пасть чудовища; в горне под колошником в последний раз пыхнуло пламя. С шорохом впустую вращался вал от водобойного колеса. Приставив лесенки, Савватий и Ванька забрались в «палатку» — в громадную раму воздуходувного механизма, отвязали перевесы от зыбка, сняли и спустили старое коромысло, а затем на верёвках принялись поднимать новое тяжеленное коромысло к оси.
— Не дёргай ты! — сказал Савватий Ваньке.
На Благовещенской фабрике было три горна, три плечистые кирпичные печи, в которых раскаляли чугунные крицы. Возле каждого горна имелось своё хозяйство: «палатки» с мехами, камора водобойного колеса и хвостовой молот с наковальней. Всё двигалось: в своей клетке крутилось колесо и лилась вода; в раме «палатки» вверх-вниз сновали очепы и кланялись зыбки; смыкались, надувая кожаные щёки, и размыкались мехи; воздух из трубки-сопла несся в воронку фурмы у подножия горна; взвивался и опадал огонь на углях под решётками колошников; поднимался и падал молот, вышибая из металла снопы ослепительных искр — изгарину и треску; суетились работные — лопатами швыряли уголь в топки и ворошили его кочергами-шуровками, клещами перекладывали крицы и полосы железа, толкали тачки. Казалось, что на фабрике царят толкотня и путаница вперемешку с грохотом, лязгом и вспышками, однако на самом деле всё было выверено и померено, и работа свершалась беспрепятственно. В косых потоках света из высоких окон под шатровой кровлей за стропилами величественно клубился синий дым.
В проёме ворот появились люди, целая толпа — Акинфий Демидов с приказчиками и племянником. Но круговорот большого дела не нарушился.
— Бог в помощь! — громко произнёс Акинфий Никитич.
— Благодарствуем! Благодарствуем! — ответили ему с разных сторон.
Акинфий Никитич огляделся и направился к молоту среднего горна.
Его молотовище было вытесано из цельного бревна и для прочности охвачено железными полосами; хвост молотовища завершался железной «лопатой». На вал водяного колеса была насажена чугунная шестерня с тремя длинными изогнутыми «пальцами»; «палец» нажимал на «лопату», и хвост опускался, грозно вздымая на другом конце молотовища железный боёк размером с бочку. «Палец» соскальзывал с «лопаты», и молотовище освобождалось — поднятый боёк тяжко падал, будто отсекал кусок жизни.