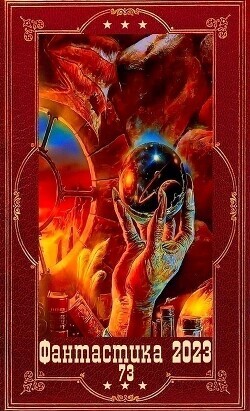Читать книгу 📗 "Проклятый Лекарь (СИ) - Молотов Виктор"
Он открыл тяжёлую дубовую дверь кабинета главного врача и замер на пороге.
За своим массивным, как саркофаг, столом сидел сам Александр Борисович Морозов. Его лицо было непроницаемым, как у игрока в покер, но в его пронзительных глазах горел холодный огонёк.
А в кресле для посетителей, вальяжно развалившись, сидел… Егор Волков.
На его лице красовалась свежая тугая повязка, фиксирующая челюсть. Но несмотря на травму, на его губах играла отвратительная, самодовольная ухмылка победителя.
— Присаживайтесь, Пётр Александрович, — Морозов указал на свободный стул. — У нас… возникла серьёзная проблема. И она напрямую касается вашего отделения. И вашего… протеже.
Сомов сел, чувствуя, как его сердце уходит в пятки. Он понимал — не произошло ничего хорошего.
— Доктор Волков утверждает, — Морозов взял в руки папку, лежавшую перед ним, — что вчера днём, в ординаторской, он подвергся неспровоцированному физическому насилию со стороны доктора Пирогова. Вот справка из нашего же травмпункта: ушиб мягких тканей, трещина в челюстной кости. Зафиксированы побои.
— Это какое-то недоразумение… — начал Сомов, но его прервали.
— Недоразумение? — Волков наклонился вперёд, насколько позволяла повязка. Его голос был гнусавым и полным праведного гнева. — Александр Борисович, он сломал мне челюсть! Ворвался в ординаторскую, когда там никого не было, закрыл дверь и напал! Угрожал, что убьёт меня и вскроет в своём морге! Он — псих! Опасный, неуравновешенный псих!
Сомов молчал.
Что он мог сказать? Защитить Пирогова? На каком основании? «Он хороший диагност»? Это не оправдание для рукоприкладства. Обвинить Волкова? Но в чём? В том, что он спровоцировал Пирогова? Это слово против слова.
Он судорожно перебирал в уме варианты, но ни один не казался рабочим. Он не мог понять истинную причину конфликта. Из-за чего они могли сцепиться с такой силой? Из-за пациентки? Из-за утренней планёрки? Всё это казалось слишком мелким для сломанной челюсти.
Должно было быть что-то ещё, что-то, чего он не знал.
Без доказательств любая попытка защитить Пирогова прозвучит как жалкое оправдание насилия в стенах элитной клиники. А Морозов и Волков только этого и ждали.
— Егор Павлович подал официальную жалобу, — Морозов постучал пальцем по папке. — Если эта история дойдёт до городской управы или до газетчиков, репутация «Белого Покрова» будет уничтожена. «В элитной клинике врачи ломают друг другу челюсти». Представляете заголовки?
Он откинулся в кресле, глядя на Сомова. И продолжил:
— Я ведь предупреждал вас насчёт Пирогова, Пётр Александрович. Говорил же, что он странный тип с тёмным прошлым. А вы его защищали. Взяли под свою личную ответственность.
Волков ухмыльнулся ещё шире, наслаждаясь унижением своего прямого начальника.
Сомов смотрел на торжествующее лицо Волкова, на холодные, выжидающие глаза Морозова и понимал, что его загнали в угол. Любое его решение будет проигрышным.
Уволить Пирогова — значит признать свою ошибку и потерять гениального диагноста, который уже спасает влиятельных пациентов.
Защитить его — значит пойти на открытый конфликт с Морозовым и, возможно, потерять всё. Он попал в идеальный шторм, и выхода из него, кажется, не было.
— Ну, Пётр Александрович, — Морозов сложил руки на столе, глядя на Сомова в упор. — Что будем делать с этим… инцидентом? Как вы — заведующий отделением и официальный поручитель — предлагаете решить эту проблему?
Я положил руки на грудь Воронцовой. Не для непрямого массажа — это было бы бесполезно. Для прямой, тотальной передачи Живы. Придётся стать её временным сердцем. Её лёгкими. Её жизнью.
Если она погибнет, то проклятье тут же уничтожит и меня. А я умирать не собирался. Не сегодня.
Энергия хлынула из меня мощным, почти неконтролируемым потоком. Я чувствовал, как мой Сосуд трещит по швам.
Двадцать процентов.
Я видел, как её сердце, окутанное моей силой, сделало одно слабое, неуверенное сокращение. Есть! Работает! Я усилил поток, направляя Живу в мозг, не давая нейронам умереть.
Пятнадцать процентов.
Второе сокращение. Третье. Слабо, почти незаметно на мониторе, но я чувствовал это своими руками. Мне казалось, что я вот-вот переломлю ситуацию. Ещё немного, ещё один рывок — и я вытащу её.
Десять процентов.
Но лучше не становилось. Её тело было как бездонная бочка. Я вливал в неё свою жизнь, а она утекала сквозь невидимые трещины, которые создала её собственная гормональная буря.
Я чувствовал, как проклятье, эта циничная сущность внутри меня, начало действовать иначе. Оно не просто позволяло мне тратить Живу. Оно начало высасывать её, словно решив, что жизнь этой женщины, матери, благотворительницы сейчас важнее жизни бывшего тёмного властелина.
Пять процентов.
Мир по краям начал подёргиваться серой, пепельной дымкой.
Руки, лежавшие на её груди, задрожали от чудовищного напряжения. Отступать было поздно. Я уже вложил слишком много. Оборвать канал сейчас означало бы не просто её смерть, а мой гарантированный провал, который проклятье точно не простило бы.
Я должен был идти до конца.
Три процента.
В ушах зашумело, точно в них бил океанский прибой. Колени подогнулись, и мне пришлось опереться о край кровати, чтобы не рухнуть. Я видел её лицо сквозь пелену, оно всё ещё было безжизненным. Ну давай же! Еще чуть-чуть! Еще немного! Ну!
Один процент.
Голова закружилась. Пол качнулся под ногами, как палуба корабля в шторм. Всё. Это был предел. Красная черта, за которой начиналась моя собственная смерть.
Я попытался оторвать руки, прервать поток. Но не смог. Канал, который я создал, превратился в одностороннюю трубу. Моя Жива продолжала уходить уже не по моей воле, а по инерции, высасываемая её умирающим телом и моим беспощадным проклятием.
— Доктор! Доктор Пирогов! Что с вами⁈ Вы белый как полотно! — голос Лизочки доносился как из-под толщи воды.
Ноль целых четыре десятых… И-и-и… я с силой оторвал руки от пациентки. Удалось.
Опустился на стул, стоявший рядом с кроватью. На лбу выступила испарина. Сердце билось еле-еле.
Оказывается, когда в Сосуде остаётся меньше одного процента, это ощущается физически. Словно сама жизнь, капля за каплей, утекает из твоего тела.
Интересное клиническое наблюдение. Жаль, что, скорее всего, последнее.
Ноль целых три десятых…
Нюхль материализовался рядом, панически теребя меня за штанину. В его пустых глазницах мерцал испуганный, отчаянный зеленый огонёк. Он понимал, что происходит.
Мои губы едва шевелились.
— Да пребудет с тобой Тьма, малыш, — прошептал я.
И мир погас.
Глава 22
Первым вернулся слух.
Монотонный, успокаивающий писк какого-то прибора. Потом — осязание. Мягкая подушка под головой, тёплое, лёгкое одеяло. Боль… Боли не было.
Марина Сергеевна Воронцова медленно открыла глаза.
Белый потолок. Стойка с капельницей, по которой лениво ползли прозрачные капли. Она была в больнице. Но что произошло?
Последнее, что она помнила — это внезапная, разрывающая на части боль в пояснице, от которой потемнело в глазах… и лицо молодого доктора, склонившегося над ней.
Она попыталась сесть, но тело было слабым, ватным, как у новорождённого. И тут же над ней нависла молоденькая медсестра с добрыми, обеспокоенными глазами.
— Марина Сергеевна, как вы? Как хорошо, что вы очнулись!
Лизочка… кажется, её звали Лизочка. Тёзка. Точно! Память возвращалась не сразу, а обрывками.
— Я… я лучше, — прошептала Воронцова. — Но что со мной было? Я помню страшную боль… и всё.
— Препарат, который назначил доктор Пирогов, помог, — затараторила медсестра. — Почки заработали, моча пошла. Кризис миновал. Но доктор Пирогов…
— Что доктор Пирогов? — с тревогой спросила Воронцова.
Медсестра молча указала в сторону.
Марина Сергеевна повернула голову и увидела его. Он сидел на стуле у её кровати, неестественно осунувшись, уронив голову на грудь.