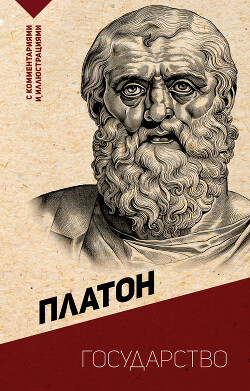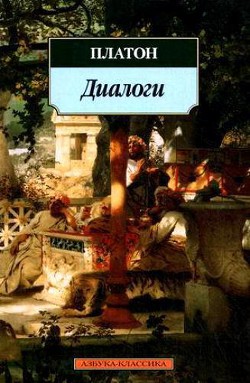Читать книгу 📗 "Платон едет в Китай - Бартш Шади"
В этих этических традициях не считалось ценным выдвигать на передний план «рациональность» как метод и как цель достижения блага61. Их западные аналоги выглядят и звучат иначе. Они «пронизаны идеалами дискурсивной рациональности и аргументации»62. Многие философы-компаративисты считают это важным моментом и поэтому признают за западной философией то, в чем они, возможно, отказали бы западу в целом. Результаты этого все равно поразительно бинарны по своей форме. Дэвид Л. Холл и Роджер Т. Эймс утверждают, что доминирующие способы мышления в классической китайской и западной культурах можно описать как аналогический и рациональный соответственно. Западная философия не была запятнана антропоцентрическим мышлением, поэтому в ней «подавлялось появление концепций, сформированных по аналогии с человеческой сферой»63. Артур Уэйли, переводчик «Бесед и суждений», утверждает в своем предисловии, что в них почти нет последовательных логических рассуждений или рациональной аргументации, а Ричард Нисбетт предлагает этому объяснение: в конфуцианской традиции все вещи взаимосвязаны, взаимозависимы и изменчивы, а значит, их всегда нужно рассматривать в контексте, тогда как на западе люди приняли логический подход Платона и Аристотеля, которые были склонны деконтекстуализировать утверждения, чтобы они оставались верными при любых условиях (а значит, являлись «истинными»)64. Ангус Грэм утверждает примерно то же самое: «Хорошо известно, что почти все китайские философские “системы” являются практическими, нравственными или мистическими философиями жизни, равнодушными к абстрактным размышлениям. Поэтому неудивительно, что китайские конфуцианцы мало заботились о формах рассуждений»65. Как говорил Цзэн-цзы, «Каждый день я трижды проверяю себя, чтобы удостовериться: Предан ли тому, кому служишь? Честен ли со своими друзьями? Применяешь ли полученные знания?»66
Некоторые философы полагают, что несоответствие между двумя этическими традициями можно проследить к отсутствию или наличию понятия противоположного как, собственно, противоположного. Мы на западе можем сказать: «Черное – это противоположность белого». Но, с другой точки зрения, и черное, и белое относятся к единому концептуальному полю – цвету, – которое они делят с другими не-противоположностями. В целом китайская философия, как пишет Тони Фан,
…отрицает реальность истинного противоречия, признает единство противоположностей и считает сосуществование противоположностей постоянным. Убежденность в истинности противоречия считается своего рода ошибкой. Западная марксистская диалектика рассматривает противоречие как реальное, но определяет его иначе, чем западная аристотелевская традиция, в терминах не законов формальной логики, а трех законов диалектической логики67.
Подобно самому Сократу, который расспрашивает собеседников и указывает на их внутренние противоречия, иногда заставляя их совсем раскиснуть, запад слишком увлечен рассуждениями типа «или/или», вместо того чтобы принять подход «и то, и другое», ассоциируемый с пониманием мира в рамках концепции инь–ян68. Западные люди стремятся разрешить парадокс, который видят, а не оставить его в покое. В результате они применяют критерий ценности, который может оказаться неуместным.
Если продолжить обсуждать рациональность в конфуцианской традиции, люди, называющие себя ее поборниками, указывают на то, что многое в ней основано на рационалистическом (если не инструменталистском) мышлении (можно предположить, что они все-таки мыслят в терминах этих бинарностей, чего во вселенной инь–ян быть не должно). Очевидно, что конфуцианские максимы и метафоры часто основаны на скрытом ядре рациональной дедукции, которое уже оборачивается в истории и метафоры69. Неоконфуцианство Чжу Си (1126–1271) и других авторов представляло собой более рационалистическую и светскую форму конфуцианской мысли и отвергало суеверные и мистические элементы, проникшие в конфуцианскую мысль из даосизма и буддизма70. Существовала даже (неконфуцианская) моистская традиция, в которой дедукция, строящаяся на элементах синтаксиса, представляла собой софистический подход к дискуссии.
Очень заметно – возможно, даже красноречиво? – что, несмотря на все более жесткий контроль Си Цзиньпина, дискуссия о «рациональности» проходит без какого-либо упоминания о собственной китайской легистской традиции, одной из форм инструментальной рациональности в политике. «Очевидно, что великодушие, праведность, красноречие и мудрость – не те средства, с помощью которых поддерживается государство», – писал выдающийся легист Ханьфэй-цзы в одноименном трактате середины III века до н. э. Однако, Питер Р. Муди отмечает:
В «Ханьфэй-цзы» также ясно сказано ‹…›, что действие инструментально- (но не нравственно-) рационального характера нельзя понять абстрактно, а только в контексте того, что в трактате называется «ши» (что приблизительно означает «обстоятельства»). Наиболее полезные формы политического анализа не ограничиваются реконструкцией рационального, а раскрывают характеристики ши – политического, исторического, культурного и психологического контекста, который обуславливает действия и определяет, по крайней мере отчасти, что составляет рациональность ‹…›. При этом используются те же индивидуалистические и инструменталистские предположения о человеческом поведении и политическом действии, что и в современной теории рационального выбора: политическое действие может быть понято как поведение индивидов, движимых собственными интересами и стремящихся достичь личных целей71.
Конфуций пришел бы от этого в ужас: достойный муж делает то, что правильно; лишь мелкие людишки делают то, что выгодно. Однако можно вспомнить знаменитое высказывание Дэн Сяопина «Какая разница, черного цвета кошка или белого?» как пример крайне инструменталистского – и не очень конфуцианского – подхода к китайской экономике.
Между тем в текстах Платона и Аристотеля (и даже Декарта) немало иррационального, если под этим понимать все притчи, не основанные на априорной рациональности. Как пишет Чэд Хансен:
Если применение аналогии, метафоры или притчи для иллюстрации идей делает поиск последовательных и стройных интерпретаций ошибкой, то лишь очень немногие из светил западной традиции могут быть истолкованы рационально. Платоновский миф о пещере и метафора Декарта о демоне на самом деле являются действенными образами, способными мотивировать создателей философских систем72.
Но в конце концов, что на самом деле стоит на кону? Если конфуцианская традиция не отдавала предпочтения «рациональности» как отличному инструменту упорядочивания общества, описания природы души, утверждения существования самого Бога или даже убеждения читателей и будущих философов, то почему она должна быть критерием для какого-либо рода суждений?73 Нет причин считать абстрактные теории истины лучше эмпирических, и в этом описании нет победителя, поскольку бинарные значения аргумента изначально ошибочны74.
Также нет серьезных оснований принимать другую особенность нынешней «дискуссии о рациональности», а именно мнение, что традицию Просвещения с ее пагубными последствиями можно проследить непосредственно от Канта, а иногда и от платоновского акцента на рациональности как высшем принципе человеческой души. Не важно, что (как уже говорилось) по мнению Канта ни один человек не должен использоваться другим как цель – неудобная точка зрения для тех, кто хочет выставить его нечистым на руку «торговцем» рациональностью, – или что целью платоновской рациональности было благополучие и стабильность государства75. Возможно, Каллиполис опирался на своего рода евгенику, но, несмотря на этот неприятный факт, мы не можем без больших усилий обвинить Платона в холокосте76. И конечно, возвышение Платоном рациональности основывалось на априорных предположениях, которые были совершенно иррациональными (и, на мой взгляд, далекими от здравого смысла жэнь), и даже Сократ временами отказывался от дедуктивной диалектики в пользу историй и мифов, которые нередко звучат убедительнее 77.