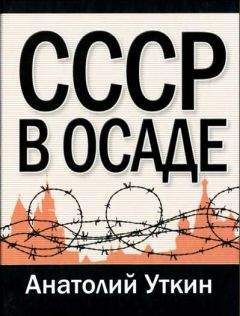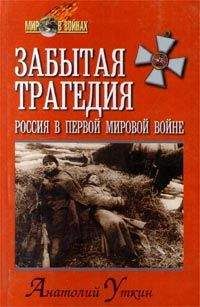Читать книгу 📗 "Запад и Россия. История цивилизаций - Уткин Анатолий Иванович"
Предварительно оценивая достижения неомодернизма, главенствующего ныне в западной политологии теоретического направления, приведем высказывание одного западного политолога: «Модернизационная теория служит идеологической защите доминирования западного капитализма во всем остальном мире» [212]. Универсализация приемлема для теоретических работ, но в реальной жизни необходимо признать культурные и политические асимметрии между развитым Западом и огромной околозападной периферией. И еще один ключевой момент. Как пишет французский социолог Ф. Бурико, «характер и степень модернизации можно определить по тому, как мы определяем солидарность» [141]. Если современный западный мир забудет об этом условии модернизационного развития, его достижения 1989–1991 гг. обесценятся.
Неомодернизм имеет очень важную особенность. Впервые — на волне глобального успеха — Запад начал медленно приходить к выводу, что, преодолев серьезнейший в своем 500-летнем подъеме вызов (Россия), он при всем своем могуществе уже не может с гарантией осуществлять мировой контроль. Своего рода предвестием этого вывода были идеи П. Кеннеди, который со всей академической серьезностью указал Западу не просто на теории в духе Шпенглера — Тойнби (все мировые империи в конечном счете «закатываются»), а на новую реальность: Запад уже не может диктовать свою волю огромной Азии [260].
Выигрывая на русском «фронте», Запад, возможно, теряет на дальневосточном.
Как оказалось, М. Вебер был не совсем прав, считая, что главным источником творческой активности является протестантская этика. Конфуцианство и буддизм во многих отношениях эффективнее, чем конвейер Форда. Предоставив трудолюбивым азиатам часть своего рынка, Запад, возможно, сыграл против себя.
Итак, послевоенный период западного мыслительного творчества как бы завершил полный круг. После 1945 г. западные идеологи начали мироосмысление с идей общемирового порядка (создание ООН), в 60-е гг. подвергли критическому анализу вселенский оптимизм, затем мирились со множеством путей в постмодернистских конструкциях и завершили круг гимном демократии и рынку как глобальному общему знаменателю.
В этом 50-летнем анализе Россия как объект исследования получала качественно разные оценки. Модернисты первого послевоенного периода видели в ее социальном эксперименте искаженный путь к тем же западным ценностям. Антимодернисты 60—70-х гг. признали ее право на оригинальное развитие и некоторое время пребывали в иллюзиях. Постмодернисты игнорировали ее, разочаровавшись в российском социальном опыте, но были готовы предоставить ей «самостоятельный шанс». Неомодернисты отвергли русский социализм как параллельный путь и снова начертили магистральную дорогу, прелагаемую Западом как авангардом, мысли, деяния и технология которого имеют первостепенное значение для всех.
Собственно, конкретный триумф Запада длился недолго — от одобрения Россией действий Запада в операции «Буря в пустыне» в Персидском заливе до тупика, в который зашел Запад (не по вине России) в прежней Югославии, Сомали, Руанде, Алжире. Новый мировой порядок «продержался» недолго — между январем 1991 г. и весной 1992 г., т. е. между сбором сил под знаменами Запада против Ирака и началом агонии Югославии, где основные мировые силы уже не занимали общую позицию; Россия заняла позицию, отличную от англо-французской и еще более отличную от американской (не говоря уже о германской). Партнерство России и Запада довольно быстро пережило эйфорическую стадию — от мальтийской встречи (1988) М.С. Горбачева и Дж. Буша до подписания Договора по стратегическим вооружениям (СНВ-2) в январе 1993 г. президентами Б.Н. Ельциным и Дж. Бушем. Далее наступили суровые будни.
Интерпретация внешней политики
Анализ самой антизападной модели внутреннего устройства России был связан с рядом сложностей, непростым оказалось и осмысление Западом внешней политики Советского Союза в послевоенные десятилетия. Так, предложенная Дж Кеннаном модель «заполнения вакуума» (будто СССР использует любую возможность распространить влияние) — наиболее распространенное объяснение советской внешней политики в 40—50-е гг., стала терять сторонников, поскольку новые факты международной жизни не вписывались в ее рамки. На основе этой модели нельзя объяснить, как совместить тягу к «заполнению вакуума» с уходом советских войск с территории Дании, Норвегии, Ирана, Австрии, Румынии, с отказом от военных баз в КНР и Финляндии.
В 60—70-е гг. усилиями группы политологов, среди которых выделяются Г. Киссинджер и М. Шульман, был выдвинут на авансцену западного теоретизирования новый стереотип взаимодействия с Востоком, который можно назвать моделью воспитания («привязки»). Согласно этой модели, поведение России в противостоянии Западу не исключает дружественности и зависит от ответных шагов Запада, позитивных или негативных. Сторонники идей «поддаваемости России воспитанию» были уверены в своей возможности стимулировать проявления «позитивных» черт в советской внешней политике и свести к минимуму «негативные» проявления. Пыл адептов этой школы охладил, как всегда, конкретный политический опыт. Нежелание «воспитуемых» стать послушными учениками (в Эфиопии, Анголе, Мозамбике, Афганистане) привели в 80-е гг. к кризису этой концепции.
Западные политологи не сразу осознали возможности диалога с вооружившейся «вселенским гуманизмом» горбачевской командой.
Итак, какие ошибки допустили западные советологи, кремленологи и русисты?
Во-первых, они преувеличивали степень стабильности и мощи объекта своего изучения. Конечно, слышны были и трезвые голоса. Здесь можно назвать «ревизионистскую» литературу 60—70-х гг.; интерпретацию советской политики С. Амброузом в «Подъеме к глобализму» (Новый Орлеан, 1983); обстоятельный труд «Стратегия сдерживания» Дж. Геддиса (1982). Но доминирующая масса политологов на Западе уверовала (и убеждала других), что СССР — супердержава такого масштаба, что ей не страшны конфликты «по всем азимутам», что она готова (и способна) ринуться одновременно к Индийскому океану и к прохладной Атлантике. Западные политологи не видели внутренних противоречий советского общества, того, что большевики по-своему решили проблему межэтнического единства (Запад считал его данностью), что экономика СССР с трудом воспринимает новации, а система управления страной имеет критические дефекты. Иными словами, западные аналитики проникали с большим трудом во внутренний мир СССР. В результате такой оценки многие оборонительные действия советской стороны воспринимались как наступательные, что держало мир в состоянии колоссального напряжения.
Во-вторых, в оценке советского общества западные политологи исходили из того положения, что в стране идет борьба демократов и консерваторов и что именно тоталитарная система препятствует трансформации общества в направлении западного образца. Позднее стало понятно, что большинство диссидентов боролись прежде всего за собственную самореализацию. Это объясняет поразительный факт невозвращения диссидентов на Родину после 1991 г. Запад переоценил значимость нелегальной оппозиции, неверно определил ее силу, характер и цели, что помешало ему увидеть реальные противоречия советского строя.
В-третьих, чрезмерно переоценивалась эффективность советской государственной машины, называемой по привычке тоталитарной, в то время как бедой Советского Союза и России была недостаточная эффективность государственного аппарата, сводившаяся практически только к словесной реакции на политику центра, отсутствию подлинно значимых рычагов регулирования национальной жизни. Наблюдая со стороны, западные политологи наделяли СССР чертами постиндустриального государства, не замечая феодальной неэффективности.
В-четвертых, Коммунистическая партия представлялась всемогущим механизмом, а ее ЦК — «интеллектуальным колоссом», способным осуществить тотальное отслеживание противников режима. Однако в те годы и месяцы, когда решалась судьба партии, стало ясно, что она давно лишилась всякого социального (не говоря уже о революционном) пафоса, что это — просто бюрократическая машина, не реагирующая даже на акции по собственному уничтожению. Запад не понял эволюции КПСС в 1956–1991 гг., смягчающей функции «застоя», гуманизации некогда почти террористической организации. Кремлено-логи долго не могли выявить собственного союзника в яростно обличаемой ими номенклатуре, не заметили в деятельности ЦК КПСС борьбы автохтонов и интернационалистов, не оценили правильно функции аппарата и ближайшего окружения генерального секретаря, не учли изменения стиля и пафоса деятельности партийного руководства — той силы, которая, как показала история, оказалась отнюдь не враждебной западным идеалам.