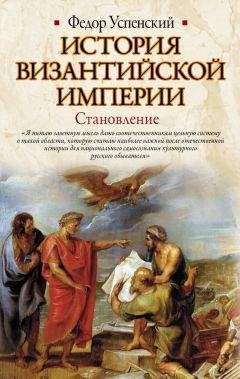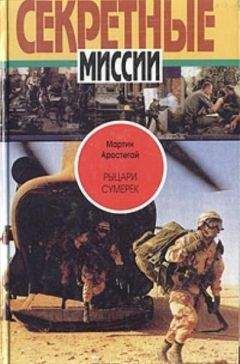Читать книгу 📗 "Локомотивы истории: Революции и становление современного мира - Малиа Мартин"
Но, как только на это было обращено внимание, умами исследователей данной темы завладела советская модель, показывавшая, что на деле может означать социализм; бывший ученик Олара Альбер Матьез предпринял попытку в отражённом свете Октября реабилитировать жестокий террор Робеспьера. Комитет общественного спасения, который устанавливал контроль над ценами (максимум), стал у него уже не только правительством национальной обороны, но и зародышем диктатуры пролетариата, увы, задушенной реакционной термидорианской буржуазией. Соответственно Матьез чернил оларовского Дантона и пел дифирамбы своему Робеспьеру, который якобы вёл настоящую кампанию за социализм против существующего республиканского истеблишмента. Однако этому первому квазимарксизму недоставало социологической глубины, поскольку Матьез подробно расписывал «дороговизну» в годы террора, как будто она могла объяснить диктатуру республиканской «добродетели», установленную Неподкупным [217]. В любом случае, отход Матьеза от взглядов Олара положил конец недолгой жизни течения, которое можно назвать неоякобинским «вигизмом». Следующие полвека в исследованиях революции царил Маркс.
Поколение 1936 г. Расцвета это движение достигло благодаря преемнику Олара в Сорбонне — Жоржу Лефевру [218]. Его социалистическое и марксистское, в духе Жюля Геда, творчество предлагает максимум того, на что способна социальная интерпретация революции. В начале 1920-х гг., следуя примеру дореволюционных российских учёных, много писавших о французском крестьянстве XVIII в., — главным образом И.В. Лучицкого [219] — и воодушевлённый картиной решающей роли крестьянства в событиях 1917 г., Лефевр, по сути, создал современную отрасль французской аграрной истории монументальным исследованием жизни крестьян его родного департамента Нор в эпоху революции [220]. В методологическом плане он был весьма восприимчив к социологии Эмиля Дюркгейма и историков школы «Анналов», чьё влияние очевидно прослеживается в посвящённой крестьянству всей Франции работе 1932 г. «Великий страх» — социальной истории того типа, который впоследствии получит название «истории менталитета» [221]. В 1937 г. после победы Народного фронта Лефевр возглавил кафедру в Сорбонне, а в 1939 г., к 150-летию 1789 г., написал сокращённое изложение событий того судьбоносного года, которое представляет собой лучший образчик классового анализа, нежели знаменитые памфлеты самого Маркса, изданные в 1848 г. [222] После войны, в 1951 г., когда Лефевр начал симпатизировать ФКП, на которую тогда падал отсвет Сталинграда, из-под его пера вышел обобщающий труд о революции во всех её аспектах: политическом, экономическом и социальном [223]. Он включил туда, в частности, данные скрупулёзных экономических исследований Эрнеста Лабрусса, демонстрирующие рост благосостояния до 1778 г., а затем десятилетие кризиса, в результате которого цена на хлеб взлетела до максимальной отметки за столетие как раз 14 июля 1789 г. [224]
Хотя в целом Лефевр рассматривал 1789 г. как «буржуазную революцию», он всё же не сводил те события исключительно к взаимодействию политики с классовыми интересами и не считал их главным образом промежуточной станцией на пути к Октябрю. Подобно Мишле, он полагал, что народный суверенитет и «Декларация прав человека» сами по себе — эпохальная историческая кульминация. Соответственно его классовый анализ событий 1789 г. достаточно нюансирован. Движение, по его словам, началось как аристократическая революция в 1787–1788 гг., переросло в буржуазную революцию в мае-июне 1789 г., потом в народную и муниципальную революцию в июле и, наконец, в крестьянскую революцию против феодальных податей в августе — в том же месяце после этих четырёх стадий наступила кульминация в виде провозглашения «Декларации прав человека» и отмены сословной системы. Именно путём такого каскада изменений революция уничтожила «старый режим».
Лет через пятнадцать после Второй мировой войны престиж «партии» во Франции достиг наибольшей высоты, в то время первый парижский «мандарин» Жан-Поль Сартр мог с уверенностью провозглашать марксизм «неизбежным горизонтом нашего века». В такой атмосфере Альбер Собуль, ученик и впоследствии преемник Лефевра в Сорбонне, ревизовал творчество Матьеза, изучая санкюлотов 1793 г. в более диалектической манере. Его диссертация, напечатанная в 1958 г., показывает, как «пехотинцев» революции трагически стёрли в порошок её внутренние противоречия [225]. С одной стороны, они были революционным классом в полном смысле слова, поборниками прямой демократии и протосоциалистического экономического контроля; с другой — лишь архаичным «предпролетариатом», состоявшим из ремесленников и мелких лавочников вкупе с неимущими наёмными работниками. Тем не менее их способность к прямому действию толкала революционные законодательные собрания влево, от 1789 г. к якобинской диктатуре 1793 г., и в данной роли они действительно выглядели предтечами современного пролетариата и российских советов. А трагедия термидора произошла из-за несовместимости между этим народным движением и «буржуазной» приверженностью Комитета общественного спасения к представительной демократии и экономическому либерализму. На деле монтаньяры использовали санкюлотов только для защиты от «феодальной» реакции. И как только их власть упрочилась, Робеспьер пресёк народное движение, невольно лишив себя телохранителей к решающей схватке 9 термидора.
Однако не всё пропало, остался ориентир грядущего Октября — данная тема с растущим усилием подчёркивалась в каждом последующем издании «Краткого курса» истории революции от Собуля [226]. Этот «Краткий курс» сделал социальную интерпретацию революции застывшей политической догмой. А Собуль, член партии, воспользовавшись должностным положением, превратил кафедру, созданную для проповедования принципов буржуазной республики, в коммунистическую вотчину.
Поколение 1968 г. Как и следовало ожидать, вскоре последовало наступление «ревизионистов». Первый залп дали британские историки-эмпиристы, которые не рассматривали события 1789 г. ни с точки зрения судьбы нации, ни с точки зрения политики настоящего времени. В 1964 г., в разгар послевоенной гегемонии марксизма (Э.П. Томпсон выпустил свой главный труд в предыдущем году, а Собуль свою диссертацию — несколькими годами ранее), Альфред Коббан опубликовал «Социальную интерпретацию Французской революции» [227]. Он исходил из предпосылки, что «якобы социальные категории наших историй — буржуа, аристократы, санкюлоты — по сути, категории политические» (а также в действительности метафизические) [228]. Он отыскал у Лефевра примеры, показывающие, что легендарная буржуазия и её феодальный противник — пустые абстракции. К сожалению, ему не удалось придумать ничего лучше, чем (как вы наверняка уже догадались!) приписать революцию «слабеющей буржуазии» в лице озлобленных юристов и королевских чиновников (officiers).
На следующий год ревизионистский вызов прозвучал уже во Франции в более аналитической форме. Здесь его бросили бывшие коммунисты Франсуа Фюре и Дени Рише, взявшие на себя весьма смелую для столь юных историков задачу создания обобщающего труда с провокационным акцентом на политику и идеологию [229]. В 1971 г. в битву оказалась непосредственно втянута собулевская Сорбонна, когда Фюре напечатал в «Анналах» свой «Катехизис Французской революции», устанавливающий эсхатологическую связь между 1789 и 1917 гг. [230] В 1978 г. «Архипелаг ГУЛАГ» А.И. Солженицына нанёс непоправимый урон советской загадке во Франции, а ревизионизм обрёл свой манифест в виде «Размышлений о Французской революции» Фюре [231]. Теперь Фюре объявил, что революция, расколовшая Францию в XIX в. и косвенным образом — вследствие её проекции на Октябрь — в XX в., наконец «закончилась». Поскольку ссылка на Советы перестала быть фактором французской политики, пора изгнать советский призрак и из науки.