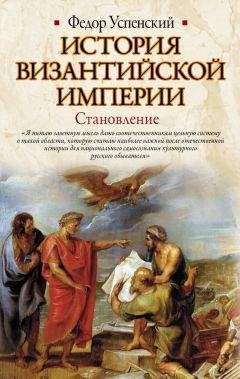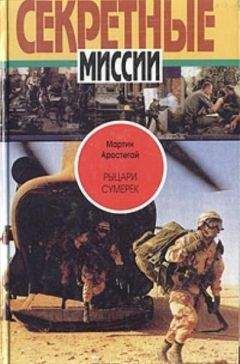Читать книгу 📗 "Локомотивы истории: Революции и становление современного мира - Малиа Мартин"
Героями Фюре стали два представителя традиции XIX в. — Токвиль и ученик Тэна Огюстен Кошен, которых ныне «открыли» во Франции [232]. Раньше оба фактически пользовались вниманием только со стороны «англосаксов» — Токвиль само собой, и даже Кошен, которому следовал наш первый «стасиолог» Крейн Бринтон в своей до сих пор не потерявшей актуальности истории революции, вышедшей в 1934 г. [233] Кошен понадобился во Франции, потому что предоставил противоядие против объяснения террора «обстоятельствами»: «теорию заговора». Название неудачное, поскольку Кошен имел в виду не настоящий заговор, а лишь организацию идейно подкованного меньшинства в политически влиятельные группировки. Подобного рода организация действительно стояла за всеми ключевыми событиями революции — от взятия Бастилии до чистки жирондистов в 1793 г. В конце концов, «люди сами делают свою историю», как сказал величайший «социологизатор» истории Маркс, характеризуя собственную систему объяснения провала 1848 г.
Фюре, синтезировавшему идеи Токвиля и Кошена, первый дал ключ к пониманию истоков и последствий революции, а второй — к характеристике самого революционного процесса. Этот процесс Фюре определяет как «поток», «каскад» или «шквал» событий, движимый диалектикой идеологического «перебивания цен» между революцией и контрреволюцией. Период 1789–1791 гг. вылился в стремительно раскручивающуюся спираль «патриотических» подозрений и упреждающих действий против всепроникающего «заговора аристократии» — всё во имя «чистой демократии» и «равенства». Революционная политика перестала касаться конкретных экономических, социальных или иных вопросов, сосредоточившись на манипулировании эгалитарным parole (словом), то есть дискурсом.
Разумеется, у Фюре были свои политические задачи. Отбирая тему революции у Маркса, уравновешивая его влияние мыслями Токвиля и Гизо, он стремился к деидеологизации текущих политических дебатов во Франции. Международная ситуация благоприятствовала выполнению такой задачи. К 1970-м гг. история Французской революции перестала быть «галлоцентричной». Современный массовый университет сильно расширил её границы, и рядом с парижским ядром все более заметную роль стали играть британцы и американцы [234].
Поколение 1989 г. В этот момент вступление на пост президента Франсуа Миттерана в 1981 г. в последний раз бросило Францию в объятия Народного фронта. Однако его попытка «перехода от капитализма к социализму» вскоре провалилась, и общий социалистический миф оказался дискредитирован почти так же, как коммунистический. Теперь считалось, что Раймон Арон, автор скандальной некогда книги «Опиум интеллектуалов» (1951), был прав во всех своих выпадах против Сартра, своего бывшего однокашника [235]. Затем сразу после падения берлинской стены Франция отметила 200-летие революции. Устроенное социалистическим правительством праздничное торжество омрачила критическая переоценка взглядов, произведённая Фюре и его давней соратницей Моной Озуф [236]. Фюре ревизовал собственный ревизионизм: в труде 1965 г. он изображал 1793 г. как отклонение от курса 1789 г.; в работе, написанной к двухсотлетию, 1793 г. уже ставился в прямую связь с годом «прорыва». Революция вновь признавалась «единым целым», однако в более трагичном смысле, чем в эпоху Клемансо. Некоторые историки даже полагали революцию и Наполеона чрезмерно затратным способом модернизации и, кивая на другой берег Атлантики, доказывали, что из-за этого экономическое развитие страны отстало на целое поколение и Франция начала постепенно приходить в упадок как мировая держава [237].
Так или иначе, ревизионизм стал господствующей ортодоксией. Однако эта ортодоксия не жаловала догмы и катехизисы. Потому она означала не упразднение социальной истории, а включение в политическую, интеллектуальную и культурную историю (и обычно подчинение ей). Соответственно оперирование чересчур широкой категорией социально-экономического класса уступило место более целесообразному анализу сословных структур и королевских институтов XVIII в. [238] В результате и знать, и буржуазия рассыпались на внутренние антагонистические страты, каждая из которых нередко частично пересекалась с аналогичным уровнем конкурирующего «сословия». Ведь, как ни странно, подробным исследованием «старого режима» не с точки зрения современной классовой теории, а в его исторической специфике — как societe a ordres — почти никто по-настоящему не занимался [239]. А теперь оказалось, что буржуазия и высшая знать принадлежали к одному экономическому классу, их богатство составляла в основном земельная собственность, а не современный капитал. Тот же самый костяк «нотаблей» господствовал во французском обществе после 1799 г. не менее прочно, чем в 1789 г. Вдобавок и для знатных, и для незнатных нотаблей была общей культура Просвещения, которая, стало быть, уже не может называться идеологией «поднимающейся буржуазии». К этой культуре относились и королевские чиновники, в социальном плане частично сливавшиеся с имущей элитой.
Одним словом, революция произошла не из-за давления буржуазии на знать и духовенство, а потому, что существующие монархические и сословные структуры в целом перестали соответствовать быстро эволюционирующим обществу и культуре. Поэтому революция была, «по сути, политической революцией с социальными последствиями, а не социальной революцией с политическими последствиями» [240]. Соответственно «буржуазная революция» и «феодализм» (как «способ производства») по большому счёту исчезли из лексикона историков. Единственная проблема, связанная теперь с подобной терминологией: разрешение загадки, откуда взялись эти наводящие тень на плетень категории и почему царили в современном историческом сознании так долго? Ответ, очевидно, кроется в особых чарах марксизма. Но вопрос «почему Маркс?» — тема другой главы.
Если провести параллель с историографией английской революции, можно сказать, что во Франции мы наблюдаем более краткий период господства либерально-республиканского «вигизма» и более длительное и глубокое влияние марксизма. Это прекрасно соотносится с различной степенью силы, которую имел коммунизм в двух странах, и с разной природой их революционных мифов. (А также хорошо коррелирует с отсутствием марксистской фазы в историографии американской революции и с чётко определившимся в Америке практически с 1776 г. национальным мифом.) Тем не менее в итоге и английская, и французская историографии пришли примерно к одному и тому же: эклектическому номинализму и отсутствию какого-либо доминирующего телеологического нарратива. В конце концов, в обеих странах сегодня существование «рыночной демократии» не вызывает таких сомнений, какие вызывало и в той и в другой стране относительно разных частей населения в послевоенные десятилетия.
Нам вновь не обойтись без сравнения с Англией. Параллели изначально присутствовали в институциональной ткани двух политий. Монархии Плантагенетов и Капетингов — старейшие в Европе. В становлении обеих значительную роль сыграл исключительный динамизм Нормандского герцогства: в первом случае благодаря завоеванию, во втором — в результате институциональной мобилизации в ответ на вызов, брошенный Плантагенетами [241]. Наконец, они веками развивались, соперничая и конфликтуя друг с другом.
Даже в 1614–1629 гг. — во времена последних «средневековых» Генеральных штатов и фиктивного последнего парламента Карла I — обе монархии во многом всё ещё представляли собой вариации на одни и те же темы. Назначение Уэнтворта на пост главы Совета по делам Севера в 1628 г. можно расценивать как аналогию прихода Ришелье к власти в 1624 г., только не увенчавшуюся таким успехом. С этого момента, однако, пути формирования государства в двух случаях разошлись: первый привёл к неудачному абсолютизму, переродившемуся в современную смешанную, или конституционную, монархию; второй — к самому «всестороннему» абсолютизму, который породил столь же «всестороннее» движение против себя и в результате сменился республикой с всеобщим избирательным правом.