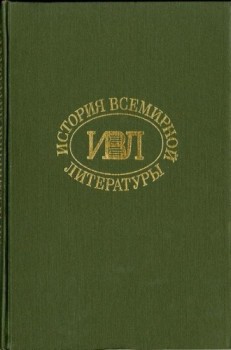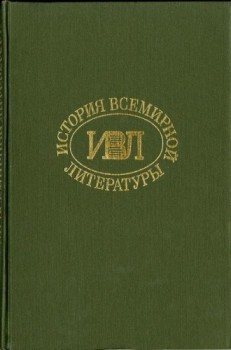Читать книгу 📗 "История всемирной литературы Т.5 - Бердников Георгий Петрович"
Однако процесс формирования этнических общностей в Южной и Юго-Восточной Азии был осложнен, а в некоторых случаях и прерван вторжением европейцев, в течение всего XVIII в. боровшихся за сферы влияния в этой части Азии.
Нельзя назвать точной даты ни для отдельно взятой страны, ни для всего ареала в целом, фиксирующей переход политической власти в руки европейских держав, — этот процесс был длительным и постепенным. В прибрежных районах Южной и Юго-Восточной Азии европейцы начали регулярно появляться с XV в., сначала завязывая лишь торговые и деловые связи и ловко используя междоусобные противоречия в своих интересах. Далеко не все восточные правители понимали тогда размеры опасности, которую представляли для них европейские купцы. В азарте беспрестанных войн друг с другом и часто во имя незначительных целей они невольно играли на руку своим врагам.
Большинство стран региона в XVIII в. потеряло политическую самостоятельность, но еще сохраняло в нетронутости свой внутренний мир, т. е. комплекс философских, этических, моральных доктрин, отвергая при этом чуждую культуру европейского мира. И европейцы, занятые войнами и торговлей, в XVIII в. еще не вторгались активно во внутреннюю жизнь восточных народов в той мере, в какой это будет в XIX в.
Исключение из этой общей картины составляют только Филиппины, потерявшие политическую независимость еще в XVI столетии. Классик филиппинской литературы Хосе Рисаль (1861—1896) писал о том мрачном времени: «Филиппины вступали в новую эру. Мало-помалу они утрачивали древние традиции, забывая свое прошлое, свою письменность, песни, поэзию, законы, чтобы вызубрить другие истины, непонятные для них, принять иную мораль, другие вкусы, отличные от тех, которые были определены для народа условиями его жизни и его восприятием». Местные языческие верования многочисленных племен, населявших архипелаг, в отличие от ислама, индуизма и буддизма в других странах ареала, оказались бессильными противостоять натиску католицизма. Уже в XVIII в. население Филиппин почти полностью было обращено в католичество. Лишь племя моро (остров Минданао), исповедовавшее ислам, дольше, чем остальные народности островов, сопротивлялось христианизации. Новая вера, а вместе с ней и новый, европейский мир оказали глубокое воздействие на культуру филиппинцев — формировался новый литературный язык, складывались новые литературные жанры (новенас, пасьон, авит, куридо, моро-моро), возникали новые для восточных народов сюжеты — жития христианских святых. В XVIII в. Филиппины в отличие от других стран региона уже были подготовлены к тому, чтобы воспринять и материальные ценности европейской культуры. Книгопечатание, например, в XVIII в. на Филиппинах уже не было новинкой. Словари и грамматики местных языков (тагальского, бисайского, илоканского) издавались в это время необычайно широко, тогда как в других странах (Индии, Индонезии и др.) только появлялись первые печатные станки.
Иным, как уже говорилось, было положение в других странах региона. Первое активное соприкосновение с европейским миром привело к резкой конфронтации культур средневекового Востока с Западом Нового времени. Герметичность и замкнутость духовной культуры Востока сказались в XVIII в. особенно резко. Настойчивая верность традициям, всегда игравшим на Востоке роль авторитетного организатора жизни, их охранительная функция в условиях политического поражения воспринимались как единственное средство сохранить самостоятельность и целостность духовного мира. Еще в XVII в. во многих странах региона начался процесс возврата к исконным местным верованиям и более глубоким пластам своих культур: в Индонезии — к домусульманским традициям древнеяванской литературы и фольклору, на Ланке — к добуддийскому эпосу, в могольской Индии — к «возрождению санскритской учености» и классической древнеиндийской поэтики. Европейская колонизация активизировала этот процесс.
Исторические условия, сложившиеся в XVIII в. в этой части Азии, способствовали сохранению средневекового стереотипа восточной культуры в целом. Система и иерархия литературных жанров, сословность литературы и искусства, их функция в жизни общества, как правило, оставались прежними. Привычные, издревле знакомые сюжеты и темы, перепевались во множестве традиционных жанров поэзии, сохранявшей главенствующую роль в литературе, а также в прозе, живописи, скульптуре и музыке. Литература и искусство сохраняли в большинстве случаев религиозный, конфессиональный характер. Эстетическая функция искусства и литературы только начинала приобретать некоторую автономность.
Три религиозно-философские системы — индуизм, буддизм, ислам, — иногда четко отграниченные друг от друга, иногда взаимопроникающие, продолжали определять многое в жизни стран региона.
В Бирме, Сиаме и Ланке именно под флагом буддизма в XVIII в. началось своеобразное духовное обновление. Культуртрегерская роль буддийских монахов в этих странах исключительно велика.
Индуизм со всеми его многочисленными местными вариациями продолжает, как и в XVII в., регламентировать жизнь индусов Индии и ряда других стран.
В различных странах по-разному складывалась судьба ислама. В Индонезии, например, в XVIII в. активная исламизация прекратилась, вследствие чего падает роль малайского языка, повсеместно распространенного в районах исламизированной прибрежной культуры. Теряют свой вес и сами прибрежные города — база ислама. Заявляют о себе более глубокие пласты индонезийской культуры — свод грандиозного бугийского мифологического эпоса «И Ла Галиго», ачехский героический эпос «Песня о Почуте Мухаммате» и др.
Авторы многих литературных произведений, отнюдь не мусульманских по духу, ограничиваются теперь лишь отдельными вставками, воздающими честь исламу. Так, в «Маник Мойо» — баснословной истории мира, где индусские боги легко подчиняются местному дуалистическому мифу, — лишь в конце произведения, вне связи с содержанием, сообщается, что легендарный изобретатель яванской письменности принял ислам и стал учеником пророка. То же в «Истории земли яванской» — хронике царствующего дома Матарама.
В Индии ислам, который в XVI в. оказывал лишь поверхностное влияние, не затрагивая внутренней органической сущности индийской культуры, значительно меняет свою роль в XVII в. и особенно в XVIII в., врастая в индусскую традицию. Процесс сближения двух культур именно в XVIII в. принес существенные результаты. В Бенгалии, большая часть населения которой добровольно перешла в ислам и где утвердились мусульманские династии, возникают новые культы божеств, вобравшие элементы двух вероучений. Таков культ Шоттепира (Шотте, или Шоттенараян, — бенгальское имя Вишну, пир — мусульманский святой), получивший в это время широкую популярность. Даже в старинных брахманских семьях Бенгалии знание персидского языка признавалось обязательным. Бхаротчондро Рай, крупнейший бенгальский поэт XVIII в.; считал свое образование законченным только после того, как более десяти лет провел в доме мусульманского шейха. Многие литературные произведения этого времени создавались на санскритизированном бенгали и записывались арабской графикой. Такова «Книга о войне», по содержанию связанная с «Махабхаратой», по форме — с персоязычной традицией. Шах Абдулла Латиф — великий поэт Синда — вызвал восхищение своих современников, соединив индуизм с суфийскими мотивами, а законы персидского стихосложения с традиционной индусской музыкой. Могольская школа в искусстве восточной миниатюры — яркая страница индо-мусульманского синтеза в живописи. Однако процесс сближения двух культур не был идиллически спокоен. Вражда ортодоксов обоих вероучений, приведшая в конце концов к расколу страны в середине XX в. именно по религиозному признаку, ощущалась и в те времена.
В предыдущих томах «Истории всемирной литературы» говорилось о том, какую роль играли культура и литература Индии, а также стран-посредниц — Малайи и Явы, а для Кампучии — Сиама в становлении письменной литературы стран Юго-Восточной Азии. Литературными языками в этой части Азии зачастую были «чужие» языки — пали, санскрит или яванский. Развитие словесности данного региона в XVIII в. ознаменовалось бурным развитием местной языковой традиции — ачехской, бугийской, сунданской, балийской в Индонезии, сингальской на Ланке, бирманской в Бирме, тагальской на Филиппинах, непальской в Непале, кхмерской в Кампучии. Новые литературные языки теснят главенствующие до той поры малайский и яванский в Индонезии (они продолжают развитие в качестве национальных языков), пали — на Ланке, Бирме и Кампучии, санскрит — в Непале.