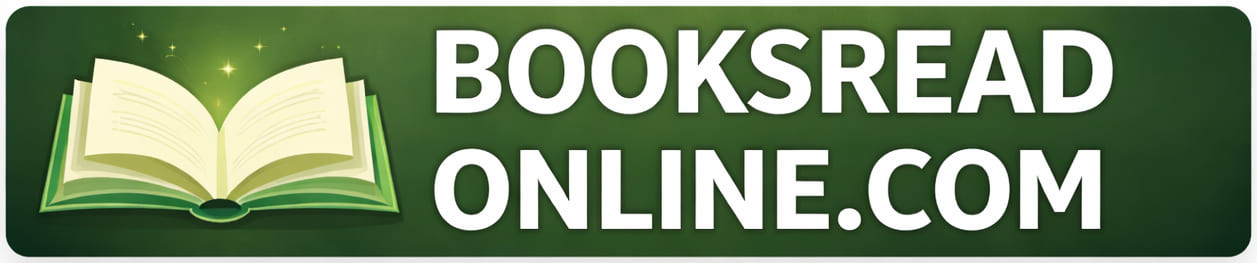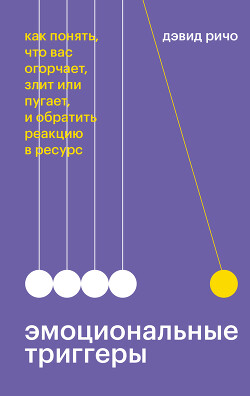Читать книгу 📗 "Танцующие с тенью - Ричо Дэвид"
Темнота темной стороны — это не о цвете, а всего лишь о бессознательном, источнике предвзятости и ненависти. Дружба с тенью сигнализирует о том, что нашим предубеждениям, основанным на страхе, пришел конец. Темнокожие американцы более не тень белой Америки. Нехристиане — не тень христиан. Бездомность — не тень процветания. Женщины — не тень патриархального общества. Когда любовь наконец заключает нас в свои раскрепощающие объятия, пышным цветом расцветает плюрализм. Это становится возможным благодаря работе над негативной тенью. И наш позитивный теневой потенциал раскрывается так же широко.
НАИГЛАВНЕЙШИЙ СДВИГ: КОНЕЦ ДУАЛИЗМА
Но самый главный сдвиг в результате дружбы с тенью — это свобода от дуализма. Дуализм есть следствие отказа удерживать свои противоположности и заключать с ними союз. Подружившись с тенью, мы в корне меняем этот стиль, базирующийся на страхе. Человеческое, естественное и божественное перестают быть чем-то поляризованным. Мы высоко ценим взаимодействие всех этих сфер бытия, ведь наше эго сотрудничает с Самостью в достижении объединяющих целей любви, мудрости и исцеления. Благодать и наши собственные усилия больше не дихотомизируются, потому что мы сотрудничаем с силами вокруг и за пределами нас. Когда мы становимся со своей тенью друзьями, предназначение перестает быть просто будущим, которое однажды наступит, — теперь это текущая реальность: отныне мы во времени вневременности, которая когда-то казалась нам такой недостижимой. По сути, мы больше, чем кажемся, именно потому, что наше полное расширение и наше измерение во Вселенной и есть Вселенная, наши демоны — творческие негодяи нашей креативности, а наш союз с божественным — наша все более богатая божественная природа.
БОГ И Я
Мое существо — Бог, не простым участием, а истинной трансформацией. Мое «я» — Бог; другого «я» не существует. Святая Екатерина Генуэзская
В момент прорыва я обнаруживаю, что Бог и я — это одно и то же… Любите Бога таким, какой он есть: не-Бога, не-духа, не-личность, не-образ; а чистое, непорочное, прозрачное единство, чуждое всякой двойственности. Мейстер Экхарт
Подружиться со своей тенью — это работа души, и она открывает нам наши отношения с божественным. Иногда в сознании присутствует четкий раскол между нами и тем, что мы видим как Бога или как любую силу, безусловно нас превосходящую. Однако трансперсональная Самость включает в себя и с любовью охватывает и принимает наше персональное эго. Мы не противоположность божественному, а сосуществующие с ним его двойники. Чем глубже мы погружаемся в свою внутреннюю личную жизнь, тем больше находим в ней трансперсонального, того, что выводит нас за ее пределы. Вот почему Мейстер Экхарт сказал: «Глаза, которыми я вижу Бога, — это те же самые глаза, которыми Бог видит меня». Мудрость в Самости заключается в признании этой свободы от дуализма. Мы можем либо разделять человеческое и божественное четкими демаркационными линиями, либо затеряться, потерять свое эго в благоговении размытых границ между ними. Духовность размывает логику, чтобы обострить более широкий и всеобъемлющий фокус и поддерживать его. В литературе эту свободу от дуализма обозначают словом парадокс.
«Бог» — это метафора тайны Самости. Макрокосм (Бог) отражается в микрокосме (человеческой психике): «Если все сущее есть не что иное, как Бог, то нет ни сущего, ни Бога, а только это», — пишет американский писатель и философ Кен Уилбер. Способность выйти за рамки всего и охватить все любовью, не отдающей ничему и никому предпочтения, — вот что происходит в нас, когда Бог есть любовь.
В «Рамаяне» есть такой персонаж — помощник Рамы, обезьяноподобное божество по имени Хануман. Зная, что Рама пребывает во всем сущем, он однажды кусает жемчужину, чтобы найти его там, и люди смеются над тем, что он так буквально воспринимает религиозный постулат. Затем Хануман раскрывает свое сердце и созерцает Раму с Ситой, его женой-богиней, вечно в сиянии живущих и правящих. Ироничная мораль этого эпизода в том, что нам приходится смотреть наружу, для того чтобы узнать, что тайна внутри нас: Бог в нас, целостность, природа Будды. «Все лотосовые земли и все Будды раскрываются в моем существе», — говорится в «Аватамсаке-сутре», «сутре цветочной гирлянды». Божественное в равной мере присутствует во всем сущем «на земле, как и на небесах». Божественное в этой увядающей земной розе и божественное в мистической Розе Небес суть одно и то же.
Блаженство Будды подобно некому пиковому опыту. Концепции в нем — даже концепция «я» (эго) — раскрываются как нечто преходящее. Факт преходящего более не ведет к отчаянию, вместо этого он указывает на внутреннюю вечность, потому что каждая полярность изначально вмещает в себя свою противоположность. Следовательно, блаженство — это не переход от сансары (привязанности к страху и желанию) к нирване (освобождению от страха и желания), а свобода от господства их обоих. Мы выходим за рамки любых противоположностей и чувствуем «божественную гордость» за то, что мы Будда. Блейк добавляет: «Гордость павлина — слава Божия». Когда исчезает дуализм, исчезает и привязанность к увядающему миру. Ее сменяет энтузиазм относительно преходящего как наинагляднейшего объяснения трансцендентного. Непостоянное ведет нас к бессмертному. Аристотель описал свой опыт, когда перед ним в Элевсине явилось «божественное зрелище, представленное нам видимым миром». Обратите внимание на уравнение в этом описании: божественное, человеческое, природное.
Эго и Самость могут говорить «да» данностям существования, но в конечном счете никого из них не удовлетворяют ограничения, этими данностями представляемые. Мы тоже всегда стремимся совершить переход от времени к вневременности, от мирского к священному в этом мире, от времен года к неизменности наших вечно бурлящих душ. Поскольку часть психики, Самость, не подчиняется законам времени, пространства и причинности, это указывает на реальность чего-то незыблемого. На религиозном языке это часть «подлинных вестей о невидимых вещах», которые описывает английский поэт-романтик Уильям Вордсворт. Мы не всегда можем доверять религиозным институтам в том, что они принесут нам такие вести. Религия может позволить им прозвучать, а может и отделять нас от божественного. Именно тут на полупустую сцену целостности выходит вера.
Вера «живет» в воображении, а не в интеллекте, поскольку откровение «живет» в метафорах и символах. Религиозные символы детства могут и позже сохранять свое место и силу в нашем воображении. Это означает, что внутри нас по-прежнему есть вера. Работа по интеграции религиозного дуализма заключается в том, чтобы переосмыслить образы и символы своего наследия и благодаря этому вернуть их в качестве строительных блоков для нового духовного синтеза. Получается, что вера взрослого, зрелого человека есть потенциальный результат объединения тени и духовности. Взрослая, зрелая вера — это вера, которая берет на себя взрослую ответственность. Убежище в религиозных символах и ритуалах не означает, что ты находишь в них убежище от мира; это значит, что ты действительно становишься эмигрантом, взрослым человеком, встречающим этот мир открыто и ответственно. Когда такое происходит, вера реальна; как сказал святой Фома Аквинский: «Завершенность веры не в понятиях, а в реальном мире».
Человеческая психика — это сердце Вселенной: сердце Иисуса, сердце Будды. Наши трудности и столкновения с требовательными обстоятельствами существования — это кончики лучей, исходящих от этого сердца. Они касались и касаются нашей жизни иногда странными или непрошеными способами. Взрослый в вере принимает беды своей сюжетной линии и справляется с ними как со страданиями, способными привести к новым перспективам. Что-то в нас, и через нас, и за пределами нас стоит незыблемо посреди всех этих изменений и наблюдает за ними с нежным состраданием. Интуитивная мудрость помогает нам не обманываться танцем майя (всем преходящим), а сохранять уверенность даже в самых пугающих его проявлениях. В этом настоящая победа и настоящее утешение духовной работы.