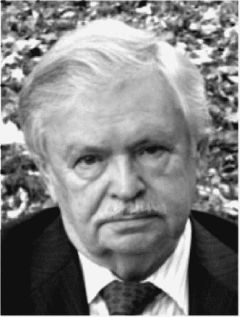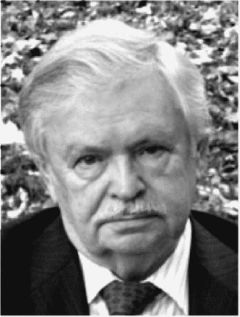Читать книгу 📗 "Непрощенная - Лиханов Альберт Анатольевич"
— Ты спросишь, что будет дальше, — говорил Вилли. — Не знаю. Подумаю. Есть простой вариант.
Он подумал. И сказал ещё кое-что, её совсем не удивившее:
— Тебя просто продадут. На сельхозработы. Наверное, тебя могу купить я сам. Я же фермер! И я могу отправить тебя домой. К родителям. Но я не хочу так.
Помолчал. Долго смотрел ей в глаза, потом твёрдо произнёс:
— Я хочу на тебе жениться!
Он поцеловал её в лоб, как целуют покойницу. И больше в тот раз не прикасался к ней. Ранним утром, в зимней тьме, они опять поехали в лазарет. Оттуда он повёл её к бараку пешком.
Лагерь поднимался ото сна, внутри барака слышались голоса заключённых.
— Ты скажешь, так не бывает, — проговорил Вилли. — Я и сам это знаю. Всё могло бы быть проще и по-моему. Но я не такого хочу. Прощай, если не позовёшь меня. И тогда ты погибнешь раньше меня. До свидания, если меня позовёшь. Запомни: я не скотина. Не все немцы скоты. И я люблю тебя.
Ох, ну и расхохотался бы этот барак, эта обездоленная команда измождённых женщин разных наций, одетая в полосатые платья, если бы Алёнушка сказала им...
Им бы сказала?.. Что она чиста... Да ни за какие коврижки, как говорят русские, не поверила бы ей эта толпа. И Алёна без всяких разъяснений знала, чего ожидать, потому что всем стало странным образом известно: заключённую такую-то вывозили за лагерную проволоку.
Алёнушка переступила порог, и несмотря на то, что была пора утреннего оживления, гомон слегка притих. На неё воззрились десятки глаз. И тут же кто-то крикнул:
— A-а! Подстилка фашистская!
И ещё, ещё:
— Сучка немецкая!
И всех перекрывающий вопль:
— Не слушай их! Спасайся, как можешь!
Алёнушка рванулась назад, выскочила на улицу, но Вилли исчез, зато там стоял другой, неизвестный ей охранник, и он крикнул:
— Назад! Выходить по команде!
И она снова вступила в барак, в ад, который выговорился, выкричался и теперь молчал.
Кто-то сказал за её спиной:
— Капо! Ангелина! Переведи меня подальше от этой суки.
— Я тебе переведу, — крикнула Ангелина голосом, не содержащим угрозы.
— И меня, — тявкнул ещё кто-то.
Даже в кузове грузовика, где их было, по русскому присловью, как сельдей в бочке, вокруг Алёны образовалась небольшая, но пустота. Ей не за кого было держаться. Только ладонями касалась она колеблющейся, ненадежной брезентовой крыши, только пальцами. Её швыряло, она падала.
Работа шла легче, ведь так или иначе Алёнушка передохнула, укрепилась едой. Но когда землекопок позвали на обед, вокруг неё снова образовалась пустота. Слёзы падали в железную миску с жалкой бурдой, и Алёнушка не знала, что делать. Молва заключённых затвердила грех, ею не совершённый. Что же было делать теперь?
Ни слова, ни слёзы не признавались оправданием. Ты виновата, и всё! Ты виновата, потому что это, во-первых, предательство Родины! Но самое страшное, что может совершить женщина на войне, так это переспать с врагом. Так что это предательство мужа-солдата, который воюет с врагом, хотя, может, никакого мужа и никакого солдата у тебя нет. Всё равно. Наконец, ты продалась за то, чтобы вырываться отсюда, хотя — ха-ха! — вырваться тебе никуда не удалось, сука, и это твоя Божья кара! Проглоти её!
И наконец! Идёт война! И все страдают! А ты хочешь уйти от этого страдания! Так пусть тебя настигнет то, что страшнее всего, — не рана, не смерть, а человеческое презрение, которое сильнее даже смерти и смерть молвой людской переживёт.
И вот тогда рядом с девочкой кто-то опустился прямо на снег. Справа и слева. С одной стороны была цыганка, ещё молодая, но постарше, конечно, Алёны. С другой присела капо Ангелина. Они вели себя так, словно их что-то связывало, во всякой случае, цыганка начальницы не страшилась.
— Дай-ка мне ручку, — сказала она, и хотя Алёна противилась, силой притянула к себе её ладонь. И тут же громко, чтобы слышали другие, воскликнула:
— Слушай, красавица!
А дальше прокричала то и так, что Алёнушка никогда не могла забыть:
— Ждёт тебя долгая жизнь! Но трудная и несчастливая!
— Выбирай, — усмехнулась командирша Ангелина. — Жизнь так жизнь. Пусть несчастливая! А можно и без неё обойтись!
Прогнала цыганку. Спросила, к Алёнушке наклоняясь, чтоб никто не слышал:
— Вилли спрашивает, да или нет?
И Алёнушка, опустив голову и помолчав, прошептала сдавленным голосом:
— Да!
Наутро она снова оказалась в лазарете для заключённых, но не на больничной койке. Всё та же медсестра, говорящая с акцентом, у которой оказалось немецкое имя Дагмар, дала ей ведро, указала на тряпку и ещё — на койку в комнате для медсестер. Коек было только две, и заправлены они по-человечески, с белыми простынями и хрустящей наволочкой на подушке. На одной поперёк лежало тёплое платье, комбинация, нижнее бельё, на полу — простые туфли без каблуков.
Стонов, криков, да и просто чьих-то голосов слышно не было, и Дагмар предупредила возможный вопрос:
— Если пы польных-х сюта клали, мы пы пез прот-тыха жил-ли! Пон-нял-ла? Здесь действует прирот-тный от-тбор. А т-ты переот-теньс-ся.
Долго размышлять не пришлось. Приехал на мотоцикле с коляской Вилли, усадил в неё, сам ухватился за плечи водителя, и они уехали в знакомый уже Алёнушке дом, пройдя, ясное дело, проверку бумаг на выезде. Номера на её груди уже никто не спрашивал. Да и обычной одежде не удивились.
Алёнушка осталась одна. К вечеру произошло важное открытие. Ещё до возвращения Вилли в дверь постучали и вошла Дагмар. Она улыбалась и медленными, неспешными, растянутыми на согласных, словами объяснила Алёне, что это её дом, точнее, дом её родителей, а Вилли снимает здесь комнату, потому что он сын состоятельных родителей в Германии, и хотя солдатам не полагается получать очень много денег из дому, ему каким-то образом делается исключение.
— Тебе очень везёт, — сказала Дагмар. — Вилли хороший человек, понимаешь? Я наполовину эстонка, а наполовину немка, и я бы была счастливой иметь такого мужа. Поверь мне!
Она помолчала и сказала откровенно, с явной завистью:
— Почему он полюбил тебя?
Появился Вилли. Закрыл дверь, чтобы никто к ним не входил, накинул салфетку на часть большого, грубо сделанного стола, уставил её едой, о которой Алёнушка и представления не имела даже тогда, когда не было войны.
Вино со странным названием на бутылке — “Фрау мильх либе” — “Молоко любимой женщины”, розовая ветчина в прозрачном, колышущемся желе, выпавшая из вскрытой железной банки, чёрные и солёные блестящие ягоды, имени которым Алёнушка не знала вовсе, сыр в вощёной бумаге из круглой красной коробочки. Даже сосиски, которые Вилли молниеносно разогрел, он достал из большой железной банки.
Принёс он ещё и свечу. Невиданно толстую, нерусскую, во всяком случае. Алёнушка таких свечей раньше не видала.
— Ну, вот, — сказал он, когда они сели за стол. — Это наша свадьба, дорогая русская девочка.
В одной руке он держал бокал с вином. Был такой бокал и у Алёны.
— Как жалко, что идёт война! И как было бы здорово, если бы был мир! Мы бы сидели с тобой в красивом ресторане над Рейном. У нас в Дуйсбурге есть очень хорошие рестораны!
Алёнушка моргнула, не понимая, как могла бы она, не будь войны, сидеть в каком-то Дуйсбурге.
— Ну, да! — опустил голову Вилли. — Если бы не война! Не концлагерь этот! Я бы тебя и не увидел! — И прибавил: — На этой земле...
Свечка потрескивала, на тарелках взблёскивала вкусная еда, и Алёнушке явилась совершенно страшная, какая-то голая в своей страхоте мысль: вот она и продаёт душу дьяволу!
Разве она любит этого Вилли? Да она же его просто не знает, да и когда, как могла узнать? Зачем? По совести-то если сказать, она просто спасается, как велела Клавдия. Бежит из ада!
Она подняла бокал, молча чокнулась с Вилли и первый раз в жизни сделала глоток вина. Голова сразу закружилась, будто ей кто-то помог. Кто-то тёплый, живущий внутри неё самой.