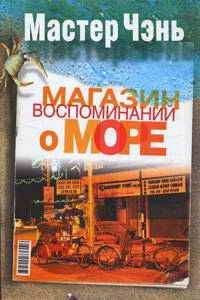Читать книгу 📗 "Девушка пела в церковном хоре - Чэнь Мастер"
И это, повторю, было через четыре недели после выхода с Мадагаскара, а вот до того… До того было зачарованное пространство, великая пустота. По Атлантике мы по крайней мере шли вдоль африканского берега, а здесь – наискосок через громадный океан.
И вот мы режем эти волны днем, без единого шторма; и вот ночью мы – небольшой город из трех освещенных улиц – просто зависаем в пустоте, стоим неподвижно под урчание моторов под ногами, а океан мягко и невидимо поворачивается там, внизу, унося от нас Африку и приближая Азию.
Хотя, конечно, множество мелких событий было – ну, очередная безумная погрузка угля с германских пароходов в середине океана; ну, мои лекции на батарейной палубе про великого Сергея Соловьева и про его странную историю русского народа, так же как про судороги русского символизма и безумие Гоголя – да, я об этом рассказывал, и меня слушали. Слушали все, потому что офицеры тоже начали забредать на мои лекции.
И еще были странные прожекторы и неизвестные корабли, возникавшие на горизонте и быстро исчезавшие с нашего пути.
А вот так и не увиденный нами Сингапур, британская морская крепость… И появление недружественных британских же крейсеров под самым носом… И вообще весь Малаккский пролив, где по ночам мы не зажигали огней, кроме отличительных, где офицеры и орудийная прислуга дежурили у пушек, им постоянно мерещились японские корабли, и били боевую тревогу… В общем, это уже было веселее.
Все изменилось, когда мы добрались до французского (то есть почти своего) Индокитая и бросили якоря в великолепной бухте Камранг. Вот где я перестал думать о своих лекциях и записях, потому что, во-первых, нас догнал белый «Орел», задержавшийся было в Сайгоне.
А во-вторых, я почему-то заранее знал, что увижу веселую пену за кормой дымящего трубой катера, на котором – знакомая, хотя слегка вытянувшаяся физиономия почти выздоровевшего после операции мичмана Воропаева. А с ним – белые одежды, туго затянутый упрямый лоб Веры Николаевны Селезневой, ее пальцы, нетерпеливо постукивающие по борту катера.
И два чемодана, его и ее. Потому что сестра милосердия Селезнева теперь временно откомандирована на «Донского» ухаживать за Воропаевым и вообще помогать нашей медицинской команде на нижних палубах.
И началось: быстрые совещания господ офицеров насчет того, напоминать ли ей о понесенной утрате – смерти жениха, или не надо, потому что обстоятельства не из тех, о которых напоминают. И как-то резко оживившаяся команда, потому что и матросам очень интересно, когда на борту снова женщина, да еще какая – с глазами цвета александрита, со вздернутым носом и веснушками на нем.
Да она же не блондинка, она рыжая – какое открытие, какой восторг! Бледно-рыжая, цвета солнца. Как я мог сразу это не увидеть?
А где она будет жить – неужели в опустевшей каюте того самого жениха, да не может быть. А будет ли она всегда ходить в нашу кают-компанию, как Тржемеский… да, конечно, будет. И жизнь теперь изменится.
Я в этих разговорах не участвовал и просто ждал своего часа. И отстраненно наблюдал за тем, как вся команда пытается перемолвиться с ней хоть словом. Офицеры – о чем-то относительно высоком, матросы – да хоть о пищеварении, будто у нас на борту до того не было двух врачей. И она отвечает всем и кому-то улыбается. А я держусь в стороне и жду.
– Ходить! – сказала мне Вера, прекрасная зеленоглазая Вера, нервно двигаясь туда-сюда вдоль перил, над вечерним заливом. – Какое счастье – ходить! Мы здесь как в клетке. Не пгобовали побыть сестгой милосегдия? Это чаще всего неподвижность, или тги шага туда, тги сюда без конца.
– И все эти ровно два месяца, как мы не виделись, вы делали только по три шага, но по многу раз? Мне повезло больше.
– Ровно два месяца… Алексей Югьевич, вы считали дни? Вы что, в меня влюблены? А почему? Нет, не пгислоняйтесь так задумчиво к погучням, дайте я вокгуг вас буду ходить…
Я перевел взгляд на берег – закат тонул за наливавшимися темно-сизым цветом горами, из-за них веером всплывали невесомые облака… Я – и влюблен? Она смеется?
– Да нет же, дорогая Вера. Я, к сожалению, не влюблен, я безнадежно люблю вас. Вы можете ходить кругами или стоять на месте, а я буду думать только об одном: сделать что-то для вас, если надо – спасти, защитить вас. Вспомните об этом, если вдруг помощь понадобится. А вот почему это так – лучше не спрашивайте. Ответить невозможно. Так со мной случилось.
Она остановилась в своих метаниях по балкону и долго вглядывалась в мое лицо, будто пытаясь его рассмотреть заново.
– Откуда вы такой взялись? Почему мне всегда так хочется с вами спогить и скандалить?
– Это лучшее, что вы мне за все время сказали. Спасибо.
– Сейчас будет еще лучше. Вот: я знаю много людей, которые мою букву «эг» вежливо и стагательно не замечают. И только одного, котогый ею откгыто и нахально восхищается.
– Вот видите, от меня есть польза.
– Еще какая. А газ все так сегьезно, то давайте беседовать только о действительно важном. О ваших стихах, тех, что не существуют.
– Ну как же это они не существуют. Они где-то есть, просто я вытягиваю их оттуда по нитке, а вместе нитки не сшиваются. Ну вот посмотрите на эту замершую в ожидании эскадру – она ждет, что я напишу балладу о трех волшебных кораблях. На первом корабле… на первом багровым светом пульсирует наша боль. Видите, вот они, перед вами, эти четырнадцать тысяч человек, боль у каждого своя, но где-то есть корабль, который бережно несет всю ее в себе. И мы идем за ним. А на корабле втором… вы не сможете это произнести, там везде эта ваша буква «р»: на корабле втором чернеет серебро.
– Почему сегебго?
– Из-за той самой буквы. Она сидит у меня в голове непрестанно. Но там, на том корабле, много чего – серебро, сокровище и сталь, вглядитесь в морское дно или дно звездного купола, увидите отблески. А есть еще и третий корабль.
– И?
– И на нем она, та, что губит нас, влюбленных в боль, серебро и сталь. Но нам виден только платочек паруса на горизонте. К нему можно тянуться… день за днем…
Я замолчал, не отрывая глаз от ее лица. У нее за эти месяцы чуть потемнела кожа, и лицо от этого стало еще прекраснее.
– И это называется – нет стиха?
– Только фантом. Но кто-то этот великий стих теперь точно напишет, если я вызвал сегодня на свет его преждевременный призрак. Даже не сомневайтесь. Они нас оттуда услышат и допишут наши стихи.
– Они нас услышат? Кто они? Да вы уже начали новую поэму!
– Старая. И тоже ничего не получается. Это должен быть короткий стих, из восьми строчек. Ну, двенадцати. Про две башни. На одной стоим мы с вами – вот прямо сейчас, наша корма ведь как башня. И смотрим через время, и хотим докричаться через него в будущее: мы здесь, мы были, мы есть.
– Я поняла: а там, в будущем, еще одна башня.
– Конечно, и люди оттуда тянут к нам руки и хотят сказать что-то важное. О чем-то нас предостеречь, от чего-то спасти. А до нас долетает только одно – «не делайте этого».
И вот взметнулись сизые перья облаков над тонущим в горах малиновым шаром солнца. Какой прекрасный был день, сейчас будет ужин, Вера будет царицей командирского конца стола в нашей кают-компании, где раньше сидела Рузская… А пока что – да когда же они прекратят свою беготню, и пыхтение, и таскание тяжестей. Это невесело наблюдать, потому что нет более горестного символа конца нашего путешествия, чем вот этот разгром еще вчера элегантного корабля, почти императорской яхты.
Дело в том, что индокитайская бухта Камранг стала для нас последней долгой стоянкой великого путешествия. И если раньше истерия по поводу японских миноносцев (у берегов Африки!) была привилегией Бешеного Быка, то сейчас-то все знали: тут не Африка, японские миноносцы из страшной сказки стали близкой реальностью.
– И он, господа, уже прощается, уже садится в катер – и говорит: у вас не крейсер, у вас какая-то яхта. Деревянные панели, занавеси, книги. Вы же знаете, что все это во время боя горит? А на него в ответ смотрят как на больного: какой бой?