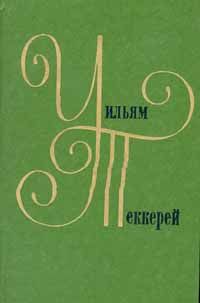Читать книгу 📗 "Искусство почти ничего не делать - Грозданович Дени"
Как можно убедиться, естественная склонность порассуждать о самых высоких материях у Гурмона всегда сдерживается, сводится к более приземленному и человеческому, к обыденной жизни. Именно с такой меркой стоит подходить к его дружбе с писателем Полем Леото, потому что тот был полной противоположностью Жюлю де Готье. С одной стороны, самые абстрактные и возвышенные рассуждения, с другой — радикальный и очистительный здравый смысл, очень скупой на слова и для которого всякие разглагольствования, слишком оторванные от близкой реальности или очень далекие от простой очевидности, становятся объектом сарказмов и самых язвительных насмешливых поучений. Однако оказалось, что за долгие годы между ними установилась искренняя дружба и взаимное восхищение. Хотя Леото ни в малейшей степени не может и не хочет постичь тонкость идей Гурмона (и тем более Готье), он восхищается его стилем, лаконичностью [101], ясностью и постоянной иронией. Со своей стороны Гурмону неизбежно необходим непринужденный и разумно приземленный взгляд Леото. Для него он настоящее средство, ограждающее от слишком бурных порывов духа абстрактного. Есть в этой дружбе отличная взаимодополняемость, скрытое донкихотство то и дело укрощается реализмом Санчо Пансы и закоренелое диогенство язвительного секретаря «Меркюр де Франс», которого он ежедневно встречал в кабинете Альфреда Валетта [102].
Гурмон решительно не любит животных, особенно собак, которые, по его словам, — как он объяснял нам до того, как у меня появилась собака, — «презренны, угодливы, неблагородны из-за их послушания, привязанности, верности и т. д.». Одним словом, в них нет ничего ницшеанского. Вчера вечером Друг [кличка собаки Леото] вертелся около него в моем кабинете, и Гурмон строил жуткие гримасы, ерзал на месте и, наконец, встал и направился в кабинет Валетта, бормоча себе под нос «Черт побери». [103]
Несмотря на преувеличения и явное недружелюбие Леото относительно этой черты характера (Гурмон любил кошек и посвятил этим животным замечательные строки), остроумное замечание по поводу ницшеанства бьет прямо в цель и исподтишка критикует абстрактное мышление, а такой метод стоит того, чтобы на нем остановиться подробнее; весьма вероятно, что сам Гурмон (следуя примеру Поля Валери) любил подобные возвращения к сиюминутной реальности, на которые Леото никогда не скупился.
Я продолжаю свое исследование, свою очень субъективную «прогулку» по гурмоновскому созвездию, и еще одно имя странным образом всплывает в моей голове: Байрон. Я догадываюсь, что такой активно-прагматичный романтизм — говорят, англичане мечтают с открытыми глазами, — бесконечные перемещения от высших духовных сфер к самым тривиальным (и наиболее неизбежным), характеризующим здоровую, спортивную погоню лорда Байрона за ощущениями, восхищал затворника и стреноженного фавна Гурмона.
Так случилось, что недавно я открыл еще одного из этих эрудированных писателей-проводников, тоже в наше время почти забытого, Фредерика Прокоша, который шутки ради написал поддельный дневник Байрона под названием «Рукопись из Миссолонги» и который также был читателем и поклонником Реми де Гурмона. Однако, перечитывая отрывок из вышеупомянутой книги с описанием воображаемой беседы Байрона с двумя его поклонниками, я замечаю, что в ней содержится самая суть того, что я называю скрытой гурмоновской философией. Случайность ли это?
Финлей спросил меня:
Не думаете ли вы, сэр, что у поэта есть обязательства перед обществом? Если поэт проповедует порок, может ли он оставаться поэтом?
— Платон в своем высокомерии (а, может, это больше предательство, чем высокомерие) исключил поэта из идеальной республики, — ответил я. — Он считал его зачинщиком смуты, силой, ведущей к анархии и упадку. Слепец Платон! Разве не видел он, что только возбуждающая анархия поэта может спасти общество, не дать ему быть задушенным догмами и учеными?
— Вы ненавидите ученых, сэр? — слегка скривившись, пробормотал Фоук.
— Не люблю и не ненавижу. Конечно, они принесли нам какую-то пользу. Но через пятьсот лет, когда Homo sapiens пожнет плоды науки, а ум индивидуума задохнется от догм, настанет конец. Всякий смысл жизни исчезнет. Такое случилось с другими животными, потерявшими свой огонь. То же случится и с человеком, когда в нем раздавят всякую любовь к жизни. Он будет желать лишь смерти, и род человеческий, размножившись сверх разумных пределов, с опущенной головой ринется уничтожать самого себя.
— Вы говорили об упадке, сэр, — заметил Финлей. — А что такое упадок?
— Это такой же естественный феномен, как сливы, что гниют в садах. В упадке есть хорошие стороны, как в осени есть красота. Поэт, безразличный к догмам и людям науки, видит то, чего они видеть не могут: тайный источник жизни. Именно так я понимаю суть слов «Сила проницательности поэта». Наши zeitgebundene [104] нравственные принципы не имеют ничего общего ни с истиной, ни с поэзией. Поэт обращается к Вечности: взгляды нашего общества живут лишь десятилетие… и какое печальное, какое унизительное десятилетие!
— Все это слишком тревожно и слишком противоречиво, — с грустью заявил Фоук.
Я наполнил бокал.
— Забудьте то, что я сейчас сказал, — пробормотал я. — Надеюсь, вы будете столь любезны, что не станете повторять это в Бостоне. А теперь, дорогой Финлей, расскажите еще о господине Гёте. Носит ли он перчатки? Имеет ли он привычку оценивать? Хорошо ли скроены его панталоны? Ходит ли он на прогулку с зонтиком?
По правде говоря, прочная привязанность Гурмона к некоторым научным теориям кажется мне его единственной эстетической слабостью; однако следует помнить, что научный идеал, который его поддерживал (а иногда восхищал), был близок к идеалу Гёте, Александра фон Гумбольдта или, скажем, книге «Введение в изучение экспериментальной медицины» Клода Бернара, а также Пастера, Дарвина и Огюста Конта. Идеал науки грезился ему духом уточнения и проверки, однако странно, что он, автор изречения «бесконечные удовольствия логики» (которое предвосхищает современную теорию познания), он, почитатель Жюля де Готье («Путем практического применения своих достижений наука открывает в социальной жизни такой простор для развития промышленности, техники и торговли, а также всевозможного стремления к выгоде, что под видом улучшения жизни она скрывает угрозу осушить источники радости» [105]), мог множество раз, не впадая в рациональный мистицизм, подписаться под тем, что в остальное время его философия высмеивала. Никто, однако, не совершенен, и именно в этом еще одна прелесть Гурмона: в его способности мириться с противоречиями, в чем он является истинным мудрецом; не состоит ли истинная мудрость в том, чтобы с долей самоиронии принимать наши боваристские иллюзии?
А впрочем, чтобы немедленно оправдать его же собственными словами это научно-боваристское заблуждение, не нужно далеко ходить, достаточно процитировать два отрывка из «Диалога любителей», из которых понятно, что с таким скептицизмом осужденное выше стремление к выгоде еще далеко от возможности «осушить источник радости»:
Горстка человеческих знаний стала большой горой, но по ней ползают все те же муравьи. Галереи стали длиннее и все чаще сообщаются между собой, но шире и выше они не стали, в них все та же ночь.
Через несколько страниц он приводит великолепную цитату из Фонтенеля [106]: