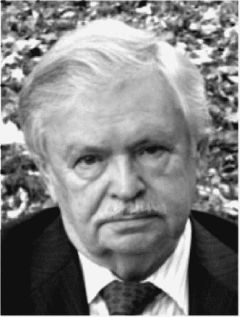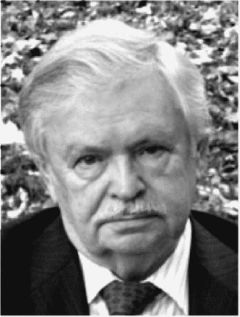Читать книгу 📗 "Непрощенная - Лиханов Альберт Анатольевич"
А просто когда подошли к их дому, и солдат с автоматом на груди стал мучительно, в десятый раз объяснять, конечно, по-немецки, помогая себе жестами, чтоб собрались и выходили. Алёнушка не удержалась и бросила ему по-немецки же:
— Понятно.
Немец обрадовано вздёрнулся, спросил:
— Шпрехен зи дойч? — Говоришь по-немецки?
Она кивнула.
— Гут, гут, — заворковал солдат, несильно взял Алёнушку за запястье, велел, чтоб матушка собирала вещи, а сам отвёл девочку к своему, похоже, командиру.
Всё, что он сказал лейтенанту, девочка поняла, а сказал он про хорошую находку — эту девчонку, которая знает немецкий и может помочь.
Лейтенант был чуточку постарше солдата, выглядел совершенно обычно, ничего злодейского Алёнушка в нём не находила — просто симпатичный парень, только в немецкой форме и говорит не по-русски. Он был в пилотке, в зелёном френче, грыз соломинку, лежал на траве и жмурился от солнца.
— Откуда ты знаешь немецкий? — спросил он доброжелательно.
— Учила в школе.
— О-о! Жаль, что я не учил в школе русский. Не потребовалась бы твоя помощь. А сейчас помоги своим соседям. Переведи людям, что надо им брать с собой. Поедете на земляные работы. Всего-то!
И Алёнушка вновь пошла по деревне рядом с первым солдатом, с тем, который обнаружил её немецкий язык, и всем повторяла одно и то же:
— Едем на земляные работы. Возьмите с собой то-то и то-то.
Все эти люди знали её. С детства самого малого — с младенчества. И была она для них маленькой Алёнушкой. Никто её особенно-то не миловал — таковы деревенские правила. Но все её знали, а её родителей, маменьку Пелагею Матвеевну и отца Сергея Кузьмича, уважали. А потому сейчас, когда она шла рядом с немцем, глядели на неё с какой-то странной надеждой, с потаённой мыслью, что Алёнушка-то не навредит, и все её самые простейшие слова о том, что надо взять с собой, принимали охотно и чуть ли не благодарили. И только возле предпоследнего дома соседка тётка Клава на Алёнушку поглядела безблагодарно, а, напротив, жестоко, и Алёнушка поёжилась от этого взгляда. Почему? Она ведь помогала своим же деревенским людям правильно понять этих немцев, взять с собой, если уж надо ехать на земляные работы, всё, что надо, и ничего не забыть, разве такое — грех? Но Клавдия, выслушав её, сверкнула оком, отвернулась и негромким, ровным голосом, чтобы ничего не заподозрил немец, спросила:
— Что же ты, девочка?
Алёнушке не пришло в голову удивиться или ответить в своё если и не оправдание, то объяснение. Просто слёзы выступили. И она опустила голову.
В холодном железном кузове немецкого грузовика, подпрыгивая вместе со всеми на ухабах, подталкивая под себя жидкий узелок с бедным своим скарбом, хватаясь за маму, Алёнушка время от времени поглядывала и на Клавдию.
Та оставила в своём доме совсем старую мать, которую Пелагея Матвеевна упросила следить за их коровой, да и за всем домом. Как и все, кто ехал теперь от дома в неведомую сторону на незнакомые труды, отдали малых детей и живность хоть на кого-то, кто оставался дома.
А у Алёнушки с маменькой никого не было. Палка, припёртая к воротам, охраняла их хозяйство. Выходило, что Клавдия-то ещё имела хоть какую привилегию — живую душу в родном доме. Да двое детей ещё остались у неё — два росточка, мальчик и девочка.
Может, всё это прожевав и осмыслив, да и сравнивая детей своих с Алёнушкой, которую на работы забрали, тётя Клава, — приветливый ведь рань-ше-то был человек, — время от времени искательно поглядывала на неё. Хотела, что ли, загладить как-то свою вину? Да сидела она в конце кузова, и мотало их всех хорошенько, так что было не до того. Не до чувств, не до разговоров.
Ехали они какими-то рывками. В селе к ним в кузов подсадили сразу человек двадцать, стало тесно. Всё женщины да девушки — и все постарше Алёнушки. Несколько старых мужчин. Можно было бы назвать их стариками, да не совсем. Не совсем, в общем, старые старики.
Стоять в кузове не позволялось, выглядывать можно было только на редких остановках, даже для исправления надобностей и то остановились лишь один раз, прямо почему-то в поле. Может, для безопасности?
Постепенно к грузовику присоединился ещё один, и ещё. Или он присоединился к другим — поди пойми. Когда в сумерках подъехали к опушке молодого низенького леса, машин оказалось уже до двух десятков, но на том месте был уже и народ — что-то копали.
Тех немцев, что забирали их в деревне, не оказалось. К машине подошёл небритый мужчина в пиджаке, в сапогах, увоженных глиной, с белой повязкой на рукаве, спросил, откуда они, ничего не понял и указал в сторону подлеска. Там костры, кухня, палатки для первого ночлега. Утром выдали лопаты, и началась работа.
Их просто вывели на окраину леска, вдоль которого были вбиты колышки, протянут шпагат. По этим линиям надо было копать, землю выбрасывать вперёд. Немолодой немец в грязных, как и у полицая, сапогах, строительный, наверное, начальник невысокого чина, объяснял, часто повторяя слово “эскарп”. Как и “шпагат”, это были явно немецкие слова. Похоже, это укрытие для орудия, догадывалась Алёнушка. А раз окоп этот длинный, на много метров, то для множества орудий. Ещё она подумала: “Ох, и стрельба будет!”. Вот и пришла война-то. Вернее, их пригнали к войне.
В лесочке ничего для жизни людей не было. Кого-то направили отрыть ямы для туалетов, строить деревянные будки. Всех мужчин, даже старших, заставили сооружать бараки — это уже подальше, за пару сотен метров, поглубже в лес. Через день-другой стали водить колоннами на ночёвку в эти бараки. А утром — к эскарпу.
Ночевали на деревянных полатях, без всяких подстилок и подушек. Мыться было негде, только умывались, прямо из вёдер, которые наставили как попало. Быстро появились вши. Женщины стали просить помывку. Хоть какую-нибудь, хоть просто у лесного озера. Говорили это полицаям, те отмахивались, но, видать, всё-таки немцам докладывали, и те велели построить на берегу озерка ещё один, банный барак, где женщины и стирали, и сами мылись, и выжаривали вшей возле пары железных печек, привезённых откуда-то полицаями.
Новая жизнь людей меняла не в недели, не в месяцы, а в считанные часы. Некоторые как-то разом собрались. Стали подтянутее, даже крепче. Все тяготы, пока ещё не самые трудные, одолевали, почти их не замечая. Да и выглядели-то эти люди отлично от остальных. Вон тётя Клава-то, соседка, обидевшая Алёнушку. Как только сошли они все из кузова на твёрдую здешнюю землю, подошла к девочке и прямо при матери её, Пелагее Матвеевне, сказала:
— Прости меня, Алёнушка, я-то, дура, подумала, что ты в услужение пошла. А ты и сама тута-ка... Детей-то хоть бы в покое оставили.
Ни Алёнушка, ни маменька ничего ответить не нашлись — Клава уже отошла. Злая, собранная, сильная... Да и что ответишь-то, что тут объяснять надо?
Клавдия сильно от остальных не отличалась. Росту выше среднего, но и не высокая, была она по-мужицки широка в плечах, да и бёдра по-бабьи крепки, мощная грудь, икры ног — широкие и сильные, руки ухватистые, крепкие. И глаза! Чёрные, жгучие, почти цыганские, они Клавдии никак не давали скрывать её чувства. Разве что она их прикрывала когда. А так! Смотрит — будто из двустволки целится, пока не прикроет взгляд свой веками, не отвернёт в сторону. И характер — по всем этим меркам — лобовой, прямой, неуклончивый.
Вроде ничего такого и не сделала Клавдия, слова лишнего не сказала, но как стали раскладываться бабы в бараке, все деревенские улеглись рядом с ней, да и сельские тоже. Но самое удивительное, что и другие, вовсе незнакомые, как-то всё жались ближе и ночевать хотели поблизости от Клавы, бывшей доярки.
У доярок ведь житьё особенное. Подъём на работу ранний, в пять, а то и в четыре утра, и Клавдия уже на ногах, одета и умыта, стоит у барачной двери, молча поглядывает, как бабье стадо сначала оживает, шуршит, просыпается, начинает шевелиться, помыкивать.
Никто её и не выбирал, сама стала старшей по бараку, да и полицаи почему-то обращались к ней, но не всякие команды отдавали, нет. Всё, что касалось работы, места её и исполнения, — тут спорить никто не собирался, а вот остальное — это уже Клавдия толковала. И насчёт мытья, стирки, мыла, хоть самого захудалого, одежонки, какого-нибудь тряпья, ночью укрыться — лето заканчивалось, приближалась осень, — об этом обо всём она спорила со старшим из полицаев, так выразительно всматриваясь в его лицо, что бригада Клавина, теперь по имени “отряд”, была отличаема от остальных. С ней почему-то предпочитали не связываться. И ещё: работал её отряд молча и яростно. Вслед за ней, своей командиршей...