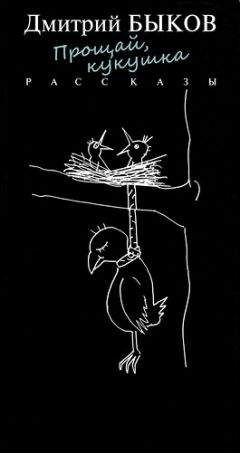Читать книгу 📗 "Прощай Атлантида - Фреймане Валентина"
Прошло много лет. У меня в Москве была близкая подруга — театральный критик Наталья Крымова, супруга режиссера Анатолия Эфроса. Вместе со знаменитой ученицей Станиславского, режиссером и педагогом Марией Кнебель она составляла на будущее сборник статей и писем Михаила Чехова. Долгие годы в Советском Союзе его имя было под запретом (он считался белоэмигрантом), но в шестидесятые годы обе дамы надеялись, что работают не напрасно. Мы сидели с Наташей у старой мадам Кнебель, жившей вместе с сестрой (обе они напоминали реликвии времен Станиславского); речь зашла о Михаиле Чехове. Я говорила, что у нас в Риге еще можно встретить латышских актеров, учившихся в его рижской студии, и тем было бы что рассказать. И у меня есть такие-то (см. выше) детские впечатления о его Хлестакове. Мария Осиповна смотрит на меня, слушает, начинает улыбаться во весь рот, а Наташа порылась и вытащила из стопки лист бумаги с переписанным текстом Михаила Чехова, это был, кажется, фрагмент письма. Работая над ролью Хлестакова, он поставил целью развить в себе такое легкомыслие, такую легкость, которая сделала бы его физически независимым от земного притяжения. Гениальность этого актера неоспорима — ведь воплощение на сцене его, так сказать, концептуального самочувствия убедило даже малое дитя!
Берлин для меня был больше связан с фильмами и героями экрана, а театры и онера мне доставались в основном в Риге, где также бурлила культурная жизнь и особенно музыкальные возможности были почти неисчерпаемы. Память не смогла всего вместить. Помню ослепительное впечатление от Севильского цирюльника с двумя феноменальными певцами — приехавшим из Парижа Федором Шаляпиным в роли дона Базилио и явившейся из Москвы Валерией Барсовой, чудесным колоратурным сопрано в роли Розины. Дома говорили: "Где еще в мире можно со сцены услышать одновременно гениального баса, эмигрировавшего из России, и звезду советской онеры Барсову!" Я знала и уважала и звезд рижской Оперы — Кактыня, Анчарова-КаДикиса, Приедниека-Каварру, Васильева и, конечно, Марисса Ветру. Также и примадонн: Алиду Ванс, Аманду Ребане, Милду Брехман-Штенгеле. А балет? Какие имена — Освальд Леманис, Елена Тангиева-Бирзниеце, Эдит Пфейфер, Мирдза Грике и многие другие, достойные высших мест в иерархии лучших танцовщиков. За весь этот сверкающий, полный звуков и цвета мир, увиденный и услышанный мною вне стен дома, я благодарна родителям, открывшим его мне как нечто не заменимое ничем другим и жизненно необходимое.
В кругу знакомств родителей были и двое русских эмигрантов, которых до сих пор вспоминают с благодарностью: балетмейстер Александра Федорова и режиссер оперы Петр Мельников. Прежде всего им Рижская опера обязана превращением в театр мирового уровня. Мельников был сыном Ивана Мельникова, легендарного русского баса, друга Мусоргского. Сам он дружил с Шаляпиным с тех времен, когда был режиссером в Петербургском Мариинском театре. Его семья мне станет опорой в грядущие черные, беспросветные дни.
Особо заинтересовал меня еще один знакомый родителей. Это был мистер Бекер из Америки, с середины тридцатых
годов — представитель кинофирмы Ме1 го-СоМтуп-Мауег (МСМ) в странах Балтии. Его резиденция находилась в Риге на Элизабетес, ближе к улице Бривибас. В просторных помещениях его офиса был и зал для демонстрации фильмов с дюжиной мягких кресел и стульев. Туда он приглашал моих родителей на частные просмотры фильмов МСМ; приглашение относилось и ко мне, я могла там бывать когда угодно. Там и состоялось мое знакомство с Гретой Гарбо, Джоанной Кроуфорд, Кларком Гейблом, звездами мюзиклов из Бродвейских мелодий и их настоящими, то есть не переозвученными при дубляже голосами, — американские фильмы на латвийские экраны частенько попадали в синхронных немецких версиях, наиболее понятных большей части жителей. Так как просмотры эти но большей части происходили в первой половине дня, я поддавалась соблазну без тени сомнения и, пропуская школьные занятия, пробиралась в темную комнату чудес. Очень важно было и то, что здесь меня как бы не касалось обычное — до 16 лет не рекомендуется. Эти слова в моей памяти вызывают безжалостного цербера, сторожившего вход в большой кинотеатр Форум. Худощавую даму с седыми кудерьками химической завивки всем сердцем ненавидели киноэнтузиасты рижских школ, у них она даже удостоилась длинного рифмованного прозвища: аИа$да1оа-таИа&да1оа (в смягченном переводе с латышского что-то вроде "дрянь-голова — бараньяголова"). Не помогали ни мамины туфли на высоких каблуках, ни крашеные губы или отцовская шляпа, орлиный глаз бараньей головы все равно распознавал самозванца. Не можешь предъявить паспорт полноценного гражданина? — значит, неминуемо будешь изгнан публично, с позором из преддверия рая.
ЛЮТЕРШКОЛА

Лютершкола была расположена в так называемом Форбурге, квартале, который рижские немцы поначалу выстроили для себя, но потом сдавали в наем, очень близко от дома дедушки и бабушки, а впоследствии — и от нашего нового жилища. Форбург был с одной стороны ограничен Даугавой и улицей Экспорта, доходившей до площади Вашингтона, где тогда было посольство США. С другой стороны его замыкала улица Аусекля и начало улицы Эли-забетес. В этом квартале строений с большим прямоугольным внутренним двором действовали две школы — одна для мальчиков, вторая для девочек
Время учебы в Лютершколе с 1931 по весну 1937 года вспоминаю с теплым и светлым чувством. В Германии уже начала расползаться нацистская чума — я эго чувствовала, когда ездила к родителям в Берлин. А вот те балтийские немцы, с которыми я встретилась в школе — и учителя, и ученицы, — еще долго сохраняли к новым веяниям относительный иммунитет. Настоящий масштаб политических перемен того времени в немецкой среде я себе не представляла. К тому же и в школе, и в семьях одноклассниц, куда меня часто приглашали, гитлеровцев попросту презирали. С детьми о политических, идейных мотивах особенно не говорили, но все же мне было ясно, что этих новых хозяев фатерланда считали плебеями, варварами, агрессивными крикунами из пивных Мюнхена, не делающими чести Германии. По всей вероятности, в самом немецком меньшинстве зрели и другие настроения, в жизни его протекали
сложные и противоречивые, для многих мучительные процессы. Финалом был исход балтийских немцев — в 19.39 году они почти безропотно последовали призыву, фактически приказу Гитлера вернуться на свою исконную родину, в Рейх. Позднее эго время, богатое сложными событиями, исчерпывающе объяснил для меня доктор Пауль Шиман, но в своих воспоминаниях я решила говорить лишь о том, что лично пережила и обдумала в то время. На своих этнических соотечественников в самой Германии (Ке1сЫ(1еи1$ске) семьи моих одноклассниц смотрели с некоторым чувством превосходства. Класс в то время для меня являлся миниатюрной моделью немецкого общества Латвии. В начальной школе в моем классе было также несколько еврейских девочек. Состоятельные и интеллигентные еврейские семьи старались своим детям дать западноевропейское образование, особенно начальное — в основной школе. Затем их записывали в еврейские или латышские гимназии, согласно правилам, действовавшим при Ульманисе: представители нацменьшинств должны учиться в своей национальной или же в латышской школе. Я была исключением, наверное, потому, что родители еще жили в Берлине и не было до конца ясно, предстоит мне путь на Запад или обратно в родную Ригу. В Лютершколе ни одна из нас никогда не замечала ни малейших проявлений великогерманского шовинизма или антисемитизма. В моем классе была одна-единственная девочка из семьи "рейхснемцев". Боже милостивый, что за бред она приносила из дому и распространяла в школе! Не помню, кем был ее отец, но скорее всего — стопроцентным нацистом. Все постулаты о превосходстве арийской расы, исключительности немецкой нации девочка вначале выстреливала без запинки как Опте наш, как нечто само собой разумеющееся. Однако вскоре ей разъяснили, что у нас это не пройдет. В престижной Лютершколе учились главным образом девочки из семей дворян или городских патрициев. Хотя аграрная реформа и выбила