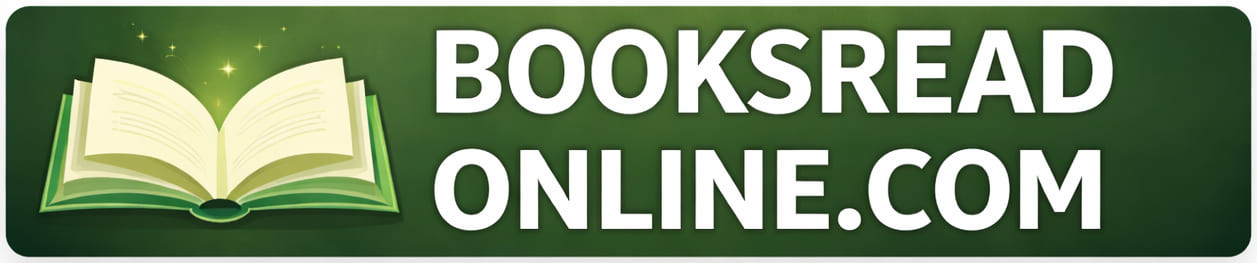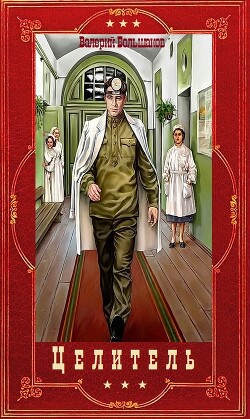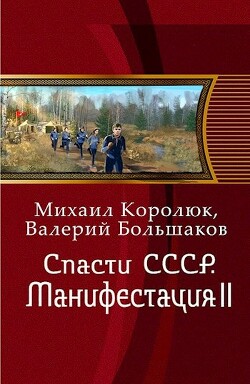Читать книгу 📗 "Спасти СССР. Реализация (СИ) - Большаков Валерий Петрович"
…У трех «изобретателей-рационализаторов» из США были совершенно иные возможности. Прежде всего — доступ к качественным пластмассам, а то и к готовым элементам маркеров (имелись же ружья для маркировки скота или разметки деревьев!). Но и у них прототипы куда как похожи были — будут — на боевое оружие.
То есть, мне что — разворачивать «для зачина» кустарный, но с приличными параметрами по качеству мини-заводик пластических масс? Решаемо на самом деле — с привлечением ресурсов предприятий или лабораторий Ленинграда! Однако размах проекта оказывается уже не таким скромным, как кажется при взгляде на современный маркер «Made in USA».
Горком комсомола потянул бы, а вот личный ресурс — йок.
Оргвопросы не решаются наитием, да и какого-нибудь «e-bay» под рукой нет… Да, оружие с приводом от «мягкой пневматики» можно просто купить за границей, но и в этом случае остается проблема доставки — массогабаритную копию АК или М-16, да еще способную стрелять, просто не пропустит таможня.
Можно ли, тем не менее, организовать производство партии маркеров и наладить выпуск шариков? На первый взгляд, да… если «зайти в горком через дядю Вадима» и быть достаточно убедительным.
Например, «развести суету» в рамках подготовки военно-патриотической игры «Орленок» в год 35-летия Победы. Но тогда…
Я с трудом сглотнул.
Но тогда, что-то мне подсказывает, УВД и УКГБ, вместе с местными военными, привлекаемыми на «Орленок», будут знать о намерениях инициативных комсомольцев и без случайных озарений Минцева!
И намного раньше, чем я получу в руки свежий, красивый, действительно нормально работающий маркер…
— Подумаем, Андрей, — ласково улыбнулась Чернобурка.
Понедельник, 18 декабря. День
Москва, Кремль
Красная ковровая дорожка глушила шаги, как трава на поляне. Андропову вдруг ясно вспомнился продрогший после дождя лес, грузные шуршащие шаги, грибные шляпки с налипшими хвоинками…
— Знаете, товарищи… — говорил на ходу Кириллин, — Самая первая реакция у меня была — мы получим не «три тура», а постоянный процесс с тремя контрольными точками. Так оно и вышло! Просматривал вчера протоколы — в ходе мозговых штурмов по польскому направлению постоянно выскакивали «общеСЭВовские» идеи — и идеи о самом СССР, а как раз это, по моему скромному мнению, и должно подвести к активизации трансформационных процессов уже в следующем году, когда польскую тему… хм… «утрамбуют».
— Очень на это надеюсь, — проворчал Юрий Владимирович. Он размеренно шагал за академиком, немного отставая от министра иностранных дел.
Громыко обернулся к нему и кивнул.
— Под собственно «турами» я понимал три вполне определенных периода работы непосредственно с официальным польским руководством, — сухо сказал он. — Толку от поляков мало, вся польза — от чрезвычайно интенсивной работы экспертно-аналитических групп. Всегда, под каждый очередной «тур», она имела на выходе очень конкретные рекомендации, обстоятельные, сравнительно подробные, но понятные руководству обеих стран.
При этом, что не вошло в такие рекомендации, становилось фундаментом как последующих «туров», так и элементами подготовки к Большому Совещанию… А, вообще говоря, понятно, что подобная «межсессионная» работа гораздо чаще присутствовала в «марафонских» переговорах с западными партнерами, чем в контактах со своими же друзьями по социалистическому содружеству!
Юрий Владимирович согласно кивнул. Пожалуй, с самого момента «достройки», когда Генеральный доверил ему Госкомитеты и НПО, он задышал спокойней и уверенней. Смелее отстаивал свои суждения (проверенные и перепроверенные в «голубятнях»!), выступал с инициативами, а не отмалчивался, как прежде.
— На мой взгляд, — заговорил он, никакой эмоцией не окрашивая речь, — при всей очевидности темы, чуть ли не самая важная задача второго тура заключалась в том, чтобы ни в коем случае не превратить его в простое повторение первого тура с повышением градуса угроз или, тем более, в сеанс открытого давления, как это было организовано в отношении делегации ЧССР в 1968-м…
— Согласен, — буркнул Громыко.
— Напротив, — Андропов взмахнул рукой в жесте трибуна, — мы предложили Программу экстренной экономической помощи ПНР, как альтернативу очевидно безнадежной ловле «момента роста конъюнктуры» и намерениям, поймав эту волну — «выскочить из ловушки». Но на той стороне стола переговоров тоже не простаки сидели, только прикидывались временами! Соответственно, был необходим достаточно убедительный расчет, проведенный максимально обстоятельно, насколько это осуществимо в условиях жесткого цейтнота. Вон, Владимир Алексеевич лучше знает…
Академик важно кивнул, не поворачивая головы.
— Основная мысль, — молвил он, сам не замечая назидательного тона, — интенсифицировать работу с Польшей в рамках СЭВ. За счет этого, с растущего оборота, получить дополнительные средства, которые можно было бы перекинуть в СКВ — и обратить на погашение польского долга.
Ю Вэ прекрасно помнил эту формулировку — своим глуховатым голосом ее выразил Косыгин на том самом «втором туре», двадцать третьего августа. Хороший был денёк — тепло, но не душно… А вот ожиданий, что витали в туре первом, Андропов уже не ощутил. Беспокойство росло, надежды чахли…
…Двадцать второго июня ПОРП собралась на пленум — и пшеки развели говорильню, абсолютно ничего не меняя! Как будто и не было покаянных обещаний! А вот «советские товарищи» очень серьезно отнеслись к польским проблемам, и готовиться ко второму туру стали немедленно по возвращению из Крыма.
В самой подготовке ощущались, почти физически, напор и даже ожесточение, да и строили ее не по обычным лекалам, а в форме, скорее, своеобразного семинара — под чутким руководством Константина Русакова. Основным ответственным назначили Вадима Медведева, ректора АОН при ЦК КПСС, но с дополнительной «параллельной группой оценки» — отметки выставляли и он сам, и Суслов, со своими присными. Андропов усмехнулся суетным мыслям.
Леонид Ильич, фактически взявший на себя польское направление, настоял на присутствии Георгия Арбатова, как представителя «линии МГИМО» и своего фактического советника-консультанта. Практически это означало подключение чуть ли не всех имеющихся из значительных «широко мыслящих» советских экономистов — Станислава Шаталина от ВНИИСИ (фактически — от него самого!), Леонида Абалкина от АОН… Александра Анчишкина с Николаем Петраковым от Госплана и ЦЭМИ, Николая Шмелева от Института экономики мировой социалистической системы АН СССР. В принципе, все они люди уже заметные, достаточно известные в своей среде…
«А толку…», — вздохнулось Юрию Владимировичу.
Слаженные, высочайшего класса рабочие группы витийствовали в «мозговых осадах», и действовали, решая относительно узкую задачу создания внятной программы спасения ПНР от катастрофических для ее экономики потрясений — сравнительно малой кровью (во всех смыслах). И решили! Выложили «команде Герека» на втором туре переговоров, разжевали и в рот положили!
Проку — никакого. Основным содержанием собственно процесса «второго тура» стало «весьма настойчивое внесение предложений». Зато отдельная группа переговорщиков-специалистов — с двадцать третьего по двадцать пятое августа! — бесстрастно фиксировала и констатировала фактический срыв высшим польским руководством вообще любых возможных решений, поскольку уже сформировалась так называемая «фатальная воронка»…
Самое паршивое, что при этом «группа Герека» была не способна избежать эскалации, однако властью с более решительными группами в партии делиться даже не думала, не говоря уже о том, чтобы поступиться ею.
Мотив «самосаботажа» был прост: страх. Источники страха, как представлялось Андропову и тогда, и сейчас, очевидны. Опасений разного рода за столом подобных переговоров вообще было много, и не только «с польского края стола». Ведь все мероприятия по польской теме становились естественным этапом работы на Большое Совещание стран-членов СЭВ, в смысле общей экономической стратегии для СССР и всего соцсодружества.