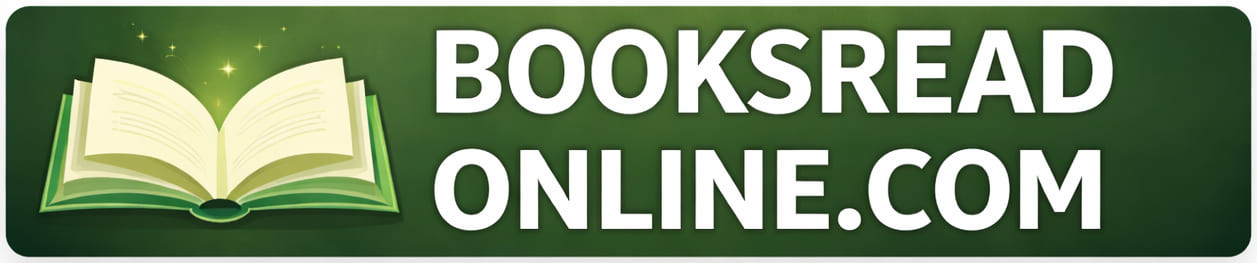Читать книгу 📗 "Парагвайский вариант. Часть 1 (СИ) - Воля Олег"
Началась тяжёлая работа: бесконечное выкапывание и таскание земли и песка. Потоки мути потекли вниз по течению, а на грубом сукне, постеленном на дно шлюзовых камер, начал скапливаться тяжёлый осадок.
Несколько раз за день шлюзы смывали в вёдра, и уже этот самый осадок на лотках вручную доводили до финала — чёрного шлиха и тонкой полоски золота.
Индейцы радовались речному золоту как дети, однако Солано знал, что видимое на лотке золото — лишь малая часть всего драгоценного металла, содержащегося в шлихе. Остальное можно было взять только с помощью суровой химии. Именно поэтому во все времена старатели травили и природу, и себя ртутью, ведь она позволяла извлечь почти всё.
Солано тоже вынужден был её использовать. В нормальном государстве она оставляла бы слишком заметный денежный след, который мог привести к знакомству с властями. Но, к счастью, сейчас в Перу царила анархия в этом вопросе, и ртуть можно было купить без особых трудностей.
Единственное, в чём он проявил попаданческий креатив, — это в импровизированном оборудовании для концентрации паров ртути после отжига амальгамы. Ему даже не столько природу было жаль, сколько ртуть терять не хотелось.
Источником вдохновения для Солано послужил древний японский самогонный аппарат «Ранбики». Его прелесть была в том, что он был чисто керамическим и очень простым в изготовлении. «Ранбики» состоит из трёх частей. Нижняя — это всего лишь горшок с сырьём. Верхняя — это сосуд для проточной воды с сильно вогнутым дном, образующим купол над горшком с сырьём. А промежуточный сосуд служит для сбора спирта, стекающего по куполу.
Аппарат, разумеется, весьма несовершенный. И риск потерять ртуть оставался. Нужно было добиться того, чтобы она испарялась медленно. Разумеется, тут же в голову пришла мысль о «бане из припоя».
Припой ПОС-60, состоящий из 40% свинца и 60% олова, плавится при 190 градусах — это очень низкая температура, и при ней скорость испарения ртути будет примерно три грамма в минуту. Для примера: при 357°C она просто мгновенно вскипит и вполне может улетучиться в атмосферу, игнорируя холодильник, а то и разорвать сосуд.
Кроме того, внутренний сосуд, в отличие от японского прототипа, имел купол с отверстием в верхней точке. По замыслу Солано, пары ртути должны были пройти через отверстие на вершине и идти вдоль холодной стенки на выход как можно дольше. А длинный выходной носик дополнительно был погружён в воду, работая своего рода гидрозатвором.
Помня старую истину, что здоровье нужно беречь с молодости, Солáно озаботился созданием и полноценного респиратора с активированным углём в качестве фильтра.
Древесный уголь он решил сделать из скорлупы орехов, которых вокруг фактории росло в изобилии. Ореховая скорлупа — отличный материал: плотная, без смол и дёгтя. Горшок с измельчённой скорлупой он отправил прокаливаться в небольшую печь из сырцового кирпича. Её главным достоинством была труба — она не только обеспечивала тягу, но и позже могла служить вытяжкой при отгонке ртути.
Пока скорлупа превращалась в уголь, Солáно занялся поташом. Вернее, не сам — привлёк помощников жечь костры и собирать золу. Её выщелачивали, многократно пропуская воду через золу, пока та не насыщалась карбонатом калия. Когда жидкость стала маслянистой на ощупь, её вылили в остывший горшок с углём и снова поставили в печь.
Вода испарилась, оставив тонкий слой поташа на угле. Затем горшок закрыли крышкой и начали раскалять докрасна. И свершилось чудо химии: поташ, взаимодействуя с углеродом при высокой температуре, создавал микропоры, резко увеличивая активную поверхность угля. Такой метод химической активации был куда эффективнее парового, но в реальности его изобрели лишь в XX веке.
Пока шли эти процессы, Солáно мастерил респиратор. Основой маски стала половинка крупного ореха, неплохо прилегавшая к лицу. Благодаря неограниченным запасам латекса проблем с герметизацией не возникло. Фильтрующие картриджи, сделанные из скорлуп поменьше, приклеили на герметик и пришнуровали по бокам — почти как в респираторах XX века. Лепестковый клапан для выдоха разместили напротив рта. Оставалось лишь заполнить картриджи мешочками с активированным углём — и лёгкие под защитой.
За сутки энергичные кечуа перелопачивали примерно по восемь-десять кубометров на бригаду. Время на ручную доводку золота на лотке они не тратили, оставляя его в шлихе, который ежевечерне доставлялся в факторию. Солано сам первые несколько дней по несколько часов стоял в воде и покачивал лотком. А потом ему это надоело. Это было бессмысленно. Всё равно видимого золота получалось меньше грамма на кубометр промытой породы. А амальгама доставала в пять-шесть раз больше.
Поэтому весь шлих, а это в среднем было пять-шесть килограммов за смену, вываливался в чашу с водой, и туда же заливалась ртуть. Солано долго и тщательно вымешивал её, наблюдая, как серебристый комок постепенно густеет и желтеет, наливаясь золотым блеском.
Насытившийся золотом комок отправлялся в «Ранбики», на маленький огонь. А Солано добавлял вторую порцию и вымешивал ещё столько же времени, стараясь забрать все золотинки до последней.
К тому времени, когда на дне копильника снова блестела серебром лужица чистой ртути, вторая партия обычно была едва заметно золотистой. И выпаривать её Солано не считал нужным, оставляя для работы со следующим объёмом материала.
Через месяц работы подвели итоги. Каждый из шлюзов выдавал примерно тридцать граммов золота в смену, что, как подсказывала память Солано, было далеко не рекордом для этих россыпей. В сумме за месяц труда они добыли больше шести килограммов.
Теоретически, при цене тройской унции примерно в двадцать долларов, добытое золото стоило больше четырёх тысяч, но на практике старатели никогда не получали полной цены. В лучшем случае им доставалась половина. Остальное уходило перекупщикам и государству в качестве налогов. Последнее было необходимо избежать любой ценой, а значит, путь Солано лежал в Лиму.
(4) «Для того чтобы преодолеть мелководные перекаты, казаки устраивали из связки парусов запруды, поднимая уровень воды, и таким образом со скоростью улитки двигались к намеченной цели». (Олег Рихтер «Сказание о Ермаке»).
Глава десятая
Инквизитор отец Кальво получает задание, Солано изобретает кокаиновую жвачку, а Карлос Лопес получает долгожданное письмо от сына
Архиепископ Лимы и одновременно апостольский викарий епархии Куско, Хосе Себастьян де Гойенече-и-Барреда, отложил бумагу и задумался. Отчёт о происшествии в деревне Ракчи вызвал у него тревогу, и он потребовал от всех служителей церкви предоставить сведения о необычных событиях в их приходах, если таковые имели место. Естественно, сам он не стал изучать гору писем — для этого были подчинённые, и то, что они отобрали, рисовало странную и даже пугающую картину.
Архиепископ позвонил в колокольчик и приказал секретарю, появившемуся в дверном проёме:
— Вызови ко мне отца Кальво.
Пресвитер Хосе Кальво де ла Баррера ранее занимал должность комиссара Священной канцелярии, пока революция формально не упразднила деятельность инквизиции на территории отколовшихся от метрополии колоний. Однако, как говорится, бывших инквизиторов не бывает.
— Высокопреосвященство, благословите, — склонился и почтительно поцеловал перстень архиепископа уже немолодой, но энергичный священнослужитель в рясе доминиканского ордена.
— Да благословит тебя Господь, — перекрестил вошедшего владыка. — Садись.
Он пододвинул к гостю стопку документов и постучал по ним пальцем.
— Язычники снова активизировались. Что-то происходит. Боюсь, как бы не повторилась история с Тупак Амару, как шестьдесят лет назад. Только теперь противостоять ему будет некому. Испания утратила власть, а местные правители — невежды и глупцы.