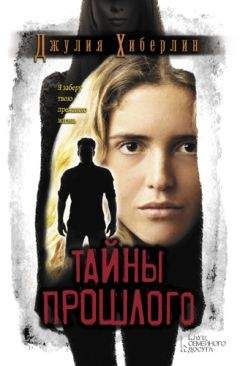Читать книгу 📗 "Там мы стали другими - Ориндж Томми"
Когда она увидела, как за ним захлопнулась входная дверь, разом закрылась и дверь в прошлое, и Опал была готова уйти.
– Пошли, – сказала она.
– Ты не хочешь?..
– Больше ничего не хочу, – сказала она. – Пошли отсюда. – Они прошли несколько миль, не сказав друг другу ни слова. Всю дорогу Опал держалась в паре шагов впереди.
Опал большая. Можно сказать, что крупного телосложения, но она большая в несколько ином смысле, более значимом, чем крупнотелая. Медики назвали бы ее дамой с избыточным весом. Но она стала большой, чтобы не съежиться и не исчезнуть. Выбрала расширение вместо сжатия. Опал – как камень. Она большая и сильная, но уже далеко не молодая, и у нее полно болячек.
Вот она вылезает из своего грузовика с посылкой. Оставляет коробку на крыльце и выходит со двора через переднюю калитку. Там, через дорогу от нее, черно-коричневый полосатый питбуль скалит зубы и рычит так низко, что у нее внутри все дрожит. На собаке нет ошейника, и время тоже как будто сорвалось с поводка, готовое промчаться в прыжке так быстро, что она умрет и исчезнет, прежде чем осознает это. Таких собак-убийц можно встретить в любой момент, так же как смерть может настигнуть где угодно, как Окленд может внезапно обнажить свои зубы и напугать до смерти. Но это уже не просто бедная старая Опал, это то, что будет с мальчиками, если ее не станет.
Опал слышит, как с той стороны улицы мужской голос выкрикивает что-то неразборчивое. Собака вздрагивает от звука своего имени, слетевшего с губ хозяина. Она трусливо съеживается, поворачивается и бежит на голос. Бедный пес, видимо, просто пытается облегчить тяжесть собственного унижения. В этом вздрагивании нельзя ошибиться.
Опал садится в почтовый грузовик, заводит мотор и направляется обратно к главному офису.
Октавио Гомес
К тому времени как я добрался до дома бабушки Жозефины, я едва держался на ногах. Ей пришлось тащить меня вверх по лестнице. Моя бабушка старенькая и сухонькая, а я уже тогда был довольно крупным парнем, но Фина сильная. В ней живет сумасшедшая невидимая сила. Мне казалось, что она пронесла меня на руках по всей лестнице и уложила на кровать в гостевой комнате. Меня бросало то в жар, то в холод, и все тело ломило так, будто мои гребаные кости сжимали, высушивали, а то и вовсе топтали ногами.
– Это может быть просто грипп, – сказала бабушка, как будто я спрашивал у нее, что со мной не так.
– Или что? – поинтересовался я.
– Не знаю, рассказывал ли тебе что-нибудь твой отец о проклятиях. – Она подошла к кровати и пощупала мой лоб тыльной стороной ладони.
– Он дал мне мой рот.
– Ругательства не в счет. Они мало что могут изменить, но настоящее проклятие больше похоже на пулю, выпущенную издалека. – Она встала надо мной, свернула мокрое полотенце и положила мне на лоб. – Это как если бы кто-то целился в тебя пулей. С такого расстояния она, скорее всего, не попадет в тебя, и даже, если попадет, обычно не убивает. Все зависит от цели стрелка. Ты говорил, твой дядя никогда ничего тебе не давал и ты никогда ничего у него не брал, верно?
– Нет, – ответил я.
– Пока мы этого не знаем, – сказала она.
Она вернулась с миской и пакетом молока. Налила молока в миску, поставила миску под кровать и подошла к вотивной свече в углу комнаты. Зажигая свечу, она обернулась и посмотрела на меня так, будто мне не следовало смотреть и лучше бы зажмуриться. Глаза у Фины кусачие. Зеленые, как у меня, но темнее – как у аллигатора. Я устремил взгляд на потолок. Она снова подошла ко мне, на этот раз со стаканом воды.
– Выпей это, – сказала она. – Мой отец проклял меня, когда мне было восемнадцать. Наложил какое-то древнее индейское проклятие, хотя мама сказала, что оно ненастоящее. Так и сказала. Как будто знала достаточно, чтобы сказать о том, что это индейское проклятие и ненастоящее, но недостаточно, чтобы сделать что-нибудь, кроме как сказать мне об этом. – Фина слегка рассмеялась.
Я протянул ей стакан, но она снова подтолкнула его ко мне, словно приказывая: Допей.
– Я тогда думала, что влюбилась, – продолжила Фина. – Я была беременна. Мы были обручены. Но он исчез. Сначала я ничего не сказала родителям. Но как-то вечером отец пришел ко мне, чтобы спросить, назову ли я его внука – он не сомневался в том, что будет внук, – в честь него. Тогда я сказала ему, что не выхожу замуж, что парень бросил меня, и ребенка я не сохраню. Отец вернулся с большой ложкой, которой иногда лупил меня – специально заточил ручку, чтобы угрожать ею, когда избивал, – но на этот раз он набросился на меня, целясь острым концом. Мама остановила его. Он бы переступил через кого угодно, через любую черту, но только не через нее. На следующее утро я нашла у себя под кроватью его косу. Искала свои тапочки, а нашла косу. Когда я спустилась вниз, мама сказала, что мне пора уходить. – Фина подошла к окну и открыла его. – Будет лучше, если мы впустим сюда немного свежего воздуха. Этой комнате нужно дышать. Я могу принести тебе еще одеял, если ты замерзнешь.
– Я в порядке. – Конечно, я солгал. Налетел ветерок, и мне показалось, что он царапает руки и спину. Я натянул одеяло до подбородка. – Это было в Нью-Мексико?
– Лас-Крусес, – сказала она. – Мама посадила меня на автобус до Окленда, где у моего дяди был ресторан. Когда я приехала сюда, сразу сделала аборт. А потом меня свалил какой-то недуг, я совсем ослабла. Так продолжалось около года. Я себя чувствовала хуже, чем ты сейчас, но состояние похожее. Эта напасть сбивает с ног и не дает подняться. Я написала маме, попросила о помощи. Она прислала мне комок шерсти и велела закопать его в основании кактуса с западной стороны.
– Комок шерсти?
– Примерно такого размера. – Она сжала руку в кулак и показала мне.
– И это сработало?
– Не сразу. Но постепенно хворь отступила, и я выздоровела.
– Значит, проклятие стало причиной твоей болезни?
– Я тоже так думала, но теперь, после всего, что случилось… – Она повернулась и посмотрела на дверь. Внизу зазвонил телефон. – Надо ответить, – сказала она, поднимаясь, чтобы уйти. – Поспи немного.
Я потянулся, и меня пробрала сильная дрожь. Я натянул одеяло на голову. Это та самая лихорадка, когда замерзаешь настолько, что приходится потеть, чтобы прогнать озноб. В поту и холоде, дрожащий всем телом, я думал о той ночи, что прорвалась сквозь окна и стены нашего дома и привела меня в кровать, где я изо всех сил старался поправиться.
Мы с отцом перебрались с дивана на кухню, чтобы поужинать за столом, когда пули пронеслись по дому. Как будто встала стена горячего звука и ветра. Весь дом содрогнулся. Это было неожиданно, но, по большому счету, ожидаемо. Мой старший брат Джуниор и мой дядя Сиксто украли у кого-то из подвала несколько растений. Они вернулись домой с двумя полными черными мешками для мусора. Чертовски глупо. Такой большой вес не мог не настораживать. Иногда я проползал через гостиную на кухню или смотрел телевизор, лежа на полу.
В ту ночь те, кого обокрали мои тупоголовые брат и дядя, подкатили к нашему дому и изрешетили его пулями, расстреляв ту жизнь, которую мы знали, жизнь, которую наши родители строили с нуля. Мой отец – единственный, кто словил пулю. Мама была в ванной, а Джуниор – в своей комнате в задней части дома. Мой отец заслонил меня собой, подставил свое тело под пули.
Лежа в постели и мечтая о сне, я не хотел, но думал о Шестерке [68]. Так я привык его называть. Дядю Сиксто. Он называл меня Октавой. Я толком не знал его, пока рос, но после смерти отца он стал приходить ко мне по нескольку раз на неделе. Не то чтобы мы много разговаривали. Он, как обычно, включал телевизор, курил травку, выпивал. Наливал и мне. Делился косячком. Мне никогда не нравилось ловить кайф. Я сразу становился чертовски нервным, начинал прислушиваться к сердцебиению – не слишком ли оно медленное или чересчур быстрое, не остановится ли сердце, не хватит ли меня удар? Впрочем, мне нравилось выпивать.