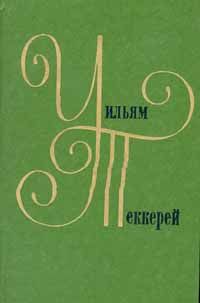Читать книгу 📗 "Искусство почти ничего не делать - Грозданович Дени"
Вот как философ Эдмунд Гуссерль определяет собственный метод:
Метод представляет собой стремление через события и эмпирические факты познать «сущности», то есть идеальные значения. Они постигаются напрямую интуитивно и на конкретных примерах, детально и очень конкретно изученных.
Что еще делает Чехов?
И что, если, несмотря ни на что, нам кажется, что иногда мы различаем у него между строк нравственную оценку, которая, вероятней всего, могла бы ограничиться простым диагнозом: несчастье человека прежде всего в его неумении приспособиться к реальным обстоятельствам, потому что неизлечимый догматизм и закоренелый идеализм мешают эту реальность увидеть.
Чехов же описывает мир с радикальной объективностью, которую невозможно усвоить без суровой аскезы, без постоянного контроля за тем, чтобы взгляд не затуманили догмы. Сдержанность, которая вызовет ненасытное любопытство читателей, отчаянно жаждущих вывести на свет собственные предубеждения. В этом смысле Антон Павлович был просто денди нравственной элегантности, как явствует из свидетельств его близких, он всю жизнь был очень сдержан, когда речь шла о его личных качествах. Через эту аскезу, как в жизни, так и в творчестве, почти целиком очищенном от предрассудков своей эпохи, Чехов изо всех сил стремился к ясности, которая до сих пор служит образцом.
Однако — ив этом заключается главное — можно увидеть, что одной из основных характеристик его метода была двойственность, которая, если подумать, остается самым утонченным способом показать трагизм человеческой жизни. Послушаем, что говорит Жан-Пьер Вернан о человеке трагическом в античной Греции:
…эта логика допускает, что, если одно из двух противоположных мнений истинно, другое обязательно ложно. С этой точки зрения человек трагический солидарен с иной логикой, которая не проводит такой резкой границы между ложным и истинным: логикой риторов и софистов, которая в эпоху расцвета трагедии еще оставляет место двойственности, ибо в вопросах, которые она рассматривает, она не стремится установить абсолютную верность какого-либо утверждения, а создает dissoi logoi, двоякие речи, которые в своем противостоянии сталкиваются, не уничтожая друг друга, и любой из двух противников может победить в зависимости от воли софиста или силы его красноречия.
Да, эта чудесная двойственность, когда мы — с детства усвоившие священный принцип логической совместимости — заканчиваем какой-нибудь рассказ Чехова, снова и снова сбивает нас с толку. Не он ли говорил, что, когда писатель закончил рассказ, ему следует вычеркнуть начало и конец, ибо именно там примешивается личный взгляд, неизбежное стремление убеждать? Надо еще отметить, что его истории почти всегда заканчиваются неожиданно и протокольно сухо, лишая нас утешительной морали.
Мне кажется, наилучшим образом суть этой философской концепции выражена в словах Гёте: Смысл жизни — в самой жизни.
А теперь стоит рассмотреть странную остаточную дихотомию между его пьесами и прозой.
Станиславский, первый исполнитель роли Тригорина в «Чайке» [86], позднее признавался, что ему понадобилось много времени — хотя он и любил эту роль, — чтобы понять, что он играет. В то время Станиславский еще не прочел ни одного рассказа Чехова, а я думаю, что его драматургия не может быть понята целиком без прозы.
Если пьесы Чехова каждый раз отсылают нас к:
боязливым и прожорливым мелким чиновникам, вялой ностальгии людей свободных профессий в провинции, персонажам с лорнетом, бородкой и в потертом сюртуке, мечтаниям хворающих вечных студентов, меланхолии обедневших усадеб, скитаниям по дальним гарнизонам и вздохам в деревенских садах, черным шалям взрослых девиц с вытянутым лицом, долгим разговорам на дачной террасе, где каждый говорит о своих разочарованиях, дамам с грустным взглядом, гуляющим с собачкой по мрачной набережной [87],
и мы всякий раз находим в них повторяющиеся детали: ностальгические сожаления по несбыточному, ироничный и разочарованный анализ психологии неудач, разоблачение популистской лубочной религиозности, нелепость напыщенных благородных излияний, ожидание мессии и революционные программы, жестокие насмешки над идолами гуманной прозы и, наконец, неизбежный провал, постоянно угрожающий большинству человеческих предприятий, короче говоря, почти энтомологическое описание неудовлетворенных жизней, более или менее доведенных до отчаяния, связанных нитями заурядной судьбы… к тому же в дополнение ко всему этому в рассказах появляется основной и без конца возобновляемый элемент: идиллическое описание природы тем более, надо сказать, идиллическое, чем сильнее надрывает душу сама история! И мне кажется, что именно в этой недостаточно отмеченной особенности — главной ценности чеховского творчества — содержится глубинная суть взглядов Антона Павловича.
В этом смысле Иван Бунин правильно сделал, что в свои воспоминания и заметки о том, кому он доводился другом, включил эпизоды, которые счел особенно показательными в том, что он называет просто «тонкой чеховской поэзией». Но на мой взгляд, там есть нечто большее: именно здесь понемногу проявляется то, что следовало бы назвать «материалистическим романтизмом Антона Павловича», и мы начинаем понимать, насколько заповедь Поля Валери — который рекомендует, если черты лица проступают слишком четко, перевернуть карту — наделена здравым смыслом, потому что произведение не приводя в отчаяние, а отчаянно прорабатывается со скрупулезным и безупречным мастерством.
Тогда начинаешь подозревать не только, что из-под внешнего нигилизма и неумолимо негативного диагноза проступает горькое разочарование, но и более того — за тщательностью и талантом, которые это создали, скрывается указующий элемент. Однако суть этого подспудного чеховского указания представляется диаметрально противоположной иудейско-христианской морализации: возможное счастье следует искать не в нас самих и не в слепой вере в верховную мудрость трансцендентного существа, а скорее в пантеистическом слиянии с природой* с окружающей нас Вселенной, с которой материально и органически связано наше живое тело. Практикующий врач, которым всегда оставался Чехов, получал деньги за это знание [88].
Курдюмов, русский критик той эпохи, писал:
Личная философия Чехова связывала его с эпохой своим торжествующим рационализмом и позитивизмом. Но он не принял их до конца, не смог довольствоваться только ими.
Этот романтический пантеизм, который угадывается только в пьесах, особенно ощутим в великолепии пейзажей его рассказов.
Чтобы убедиться в этом, приведем несколько отрывков, выбранных Буниным:
На первых порах Старцева поразило то, что он видел теперь первый раз в жизни и чего, вероятно; больше уже не случится видеть: мир, не похожий ни на что другое, — мир, где так хорош и мягок лунный свет, точно здесь его колыбель, где нет жизни, нет и нет, но в каждом темном тополе, в каждой могиле чувствуется присутствие тайны, обещающей жизнь тихую, прекрасную, вечную. От плит и увядших цветов, вместе с осенним запахом листьев, веет прощением, печалью и покоем.
В сяду было тихо, прохладно, и темные покойные тени лежали на земле. Слышно было, как где-то далеко, очень далеко, должно быть, за городом, кричали лягушки. Чувствовался май, милый май! Дышалось глубоко и хотелось думать, что не здесь, а где-то под небом, над деревьями, далеко за городом, в полях и лесах, развернулась теперь своя весенняя жизнь, таинственная, прекрасная, богатая и святая, недоступная пониманию слабого, грешного человека. И хотелось почему-то плакать.