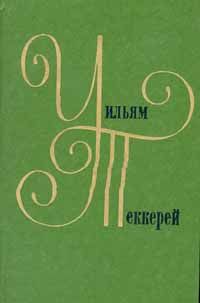Читать книгу 📗 "Искусство почти ничего не делать - Грозданович Дени"
Пораженный этим зрелищем, я, как обычно, принял его за негласное противодействие истерии народных масс. Словно реальность хотела философски и с юмором призвать нас к порядку, показать, что весь этот ажиотаж — лишь вычурная игра, клочок пены на бушующей волне времени, мимолетный всплеск в продолжительном сне, и что всегда есть возможность потихоньку отстраниться. Еще я вообразил (когда настроение плохое, чего только в голову не взбредет), что в еще более ироничном смысле было возможно, что уснувшему снится, будто он наконец смотрит настоящий финал «Ролан-Гарроса», великолепный матч из пяти захватывающих сетов, где элегантность в сочетании с талантом рождают жажду победы и точных ударов любой ценой; а может, даже (почему бы и нет?) этот вдохновенный сомнамбула из сочувствия к poverino Федереру рассудил, что единственно правильным будет (разве не говорят, что некоторые люди способны мгновенно уснуть во время публичного унижения?) погрузиться в сон, чтобы отрешиться от мучительной эффективности фактов.
Эти слегка бессвязные размышления (каждый борется со скукой по-своему) заставили меня провести параллель между зрелищем, которое представляют собой сегодня многие теннисные матчи (когда механические пасы с задней площадки корта наводят на мысль об отработанной заранее схеме, и которые, как недавно сказал мне Джанни, в Италии прозвали «соревнованиями по видеоиграм»), и услышанной позавчера новостью про японца из Токио, помешавшемся на видеоиграх, который прикончил пятнадцать человек (вероятно, придав этому символический смысл, перед храмом видеоигр японской столицы) и заявил полицейским, что хотел таким образом «проснуться», окончательно вырваться из своего виртуального мира.
Тогда я пожелал, чтобы, если уж на то пошло, мужчина, уснувший на трибуне в нескольких метрах от меня, пробудился в более мирном настроении (осторожность — не последнее из моих достоинств), и покинул трибуну на третьем сете при счете пять ноль в пользу Надаля. Когда я прощался с Джанни со словами «до следующего года», он состроил гримасу, как клоун Феллини, и ответил: «Возможно, возможно… Если до тех пор мне удастся пробудиться от этого странного сна!»
Три великих мечтателя (Антон Павлович Чехов, Томас Бернхард, Реми де Гурмон)
Двусмысленность и могущество мечты у Антона Павловича
В четырнадцать лет я ужасно скучал на уроках в школе, а потому при любой возможности старался от них увильнуть и пойти в библиотеку, где на полках в идеальном порядке в красно-сером переплете стояло полное собрание рассказов Чехова с фирменной чайкой «Объединения французских издателей». Там я проводил волшебные часы, которые и составили мое настоящее образование.
Думаю, в то время в Чехове меня поражало больше всего то, что у него я находил мир таким, каким мне рисовала его моя детская интуиция, свободным от школьных и религиозных догм, которые всеми силами пытались привить мне. Я обретал право наблюдать за явлениями и людьми, не подвергая их моральной оценке. В то время меня поражала отнюдь не навязчивая «разочарованность» чеховских заключений, а, напротив, в прямом смысле «невероятная» поэтичность его произведений. Мне кажется, это чтение одновременно оградило меня не только от картезианского рационализма, но и от веры в возвышенно-чудесное, которая неловко пытается его заменить. Таким образом, полагаю, я сразу понял, чем на протяжении времени продолжала для меня оставаться сущность чеховских книг, которая проступает лишь водяными знаками и наверняка ускользает от сознания даже самого автора.
Да и не в том ли очарование всех великих писателей, чтобы оставить достаточно места между строк, дабы реальность, скользя сквозь нити повествования, внезапно всплывала на повороте страницы?
У Чехова мы видим мир словно «в зеркале, которое проносит вдоль дороги» рассказчик, который ограничивается тем, что холодно и аналитически следит за событиями, и такая позиция хороша потому, что позволяет нам воссоздать многообразие, непонятность и странность мира, такого, каким мы ощущаем его, когда попадаем в чужую страну, где наши моральные принципы уже не имеют значения. Тщательные описания, с легкостью отмеченные (по его собственному выражению) «точными, меткими деталями», приводят нас в замешательство, будят в нас неуверенность, покоившуюся под спудом реальной жизни, например: какой смысл придать событиям, как разобраться в хитросплетении интриг, как определить характер встречающихся нам людей? Более того, будучи автором, он без конца рождает в нас ощущение, что ситуация вышла из-под контроля, персонажи живут своей жизнью, и он их больше не понимает. На эту тему мне хотелось бы процитировать слова художественного критика о другом великом писателе, который, как мы знаем, испытал огромное влияние Чехова (и который, надо отметить, также был врачом). Пико Айер говорит о Сомерсете Моэме:
Одним из великих талантов Моэма была способность посеять в нас впечатление, что персонажи ускользают от него и продолжают вести собственную жизнь. Иногда он даже прерывает действие на середине и вставляет путаное отступление, объясняя, почему не может понять поведения собственных персонажей, а также все обстоятельства истории, которую он пытается нам рассказать. Это, вполне очевидно, хитрая авторская уловка — он вновь и вновь ловко описывает собственную неспособность и, делая это, высвобождает нечто такое, что придает его историям редкостную двусмысленную непринужденность. Они колеблются и трепещут на краю бездны — тайного тяготения человека к хаосу.
И хотя стиль Чехова более лаконичный и отстраненный, нежели у Моэма, есть основание полагать, что он был начинателем этой литературной манеры. Однако я уже почувствовал, что душа Антона Павловича (как его уважительно называл его друг Бунин) была ареной подсознательного, так и неразрешенного конфликта между его едкой, почти научной, наблюдательностью материалиста и глубоким метафизическим, дальневосточным, одним словом, даосским (Бунин рассказывает, что родные Чехова имели ярко выраженные монгольские черты) чувством «хода вещей». Несмотря на свой резковатый позитивизм, приобретенный за время учебы на медицинском, и вечной тяге к точному диагнозу, в его произведениях постоянно и явно ощущается неизбежный антагонизм присутствующих сил, инь и ян без конца стремятся к равновесию. Этот двойственный взгляд отдаляет его от тяжеловесного морализма Достоевского и Толстого; это действительно скорее не манихейская концепция, а медицинский взгляд на мир, в котором рождаются определенные взаимодействия, пересекающиеся при малейшем событии.
У Чехова мало психологии: действие описывается извне, а нам, читателям, предстоит его объяснять, если на это еще есть желание, ибо по мере чтения начинаешь чувствовать, насколько неуместно хотеть проникнуть в смысл безнадежно запутанных событий. Здесь, наверное, стоит вернуться к тому, что Бунин называл дальневосточным атавизмом у Чехова, и вспомнить эту старинную китайскую заповедь чань:
Если хочешь знать голую правду, не заботься ни об истине, ни о лжи. Спор между ложным и истинным — это болезнь духа.
Возможно, небесполезно заметить, что понятие голой правды чань, каковым оно приведено здесь, отсылает нас к тому, что мы сегодня называем «глобальной реальностью» в противоположность множеству мелких сиюминутных истин, которые ее составляют. Вот почему, я думаю, можно сказать, что Чехов внес свой вклад, хотя он это и отрицает, в философский дух, носящийся в воздухе своего времени: появление «феноменологической редукции» мира, чей основной принцип, как известно, — описывать вещь, строго избегая оценочных характеристик, — отказ от оценки позволяет основному смыслу, освобожденному от влияния наших желаний, выйти на поверхность сознания [85].