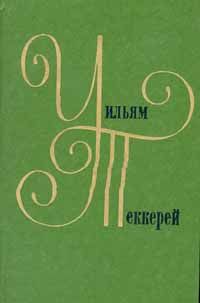Читать книгу 📗 "Искусство почти ничего не делать - Грозданович Дени"
Еще я вспомнил, как знакомят с монитором (кажется, его называют «водителем зала») небольшие группки зрителей, приглашенных в студию на телепередачи, гостем которых я был, как этот «водитель» предписывает им громко аплодировать или смеяться по его сигналу, много раз репетируя с ними этот сценарий перед началом передачи.
Чтобы дать наглядный пример словам, расскажу один случай, произошедший несколько лет назад на трибунах «Ролан-Гарроса». Я пришел посмотреть финал парижского чемпионата второй группы участников, где выступали — французский уровень тенниса, конечно, смотрелся средним рядом с лучшими в мире американцами — два замечательных спортсмена-любителя, показавших очень красивую игру. Прямо надо мной сидели тогдашний президент и вице-президент Французской федерации тенниса. Матч подходил к концу, и они обсуждали между собой вручение кубка, когда один спросил у другого: «Шампанское будет?» На что тот ответил: «Да ну, перестань!» Этот чемпионат состоялся за несколько дней до «Ролан-Гарроса», и впоследствии я убедился, что в течение двух недель главного турнира — престиж обязывает! — шампанское на трибуне федерации текло буквально рекой.
Легко привести массу подобных примеров, наши глаза всегда прикованы — или, скорее, приклеены, как у детей, к экранам — выступлениям звезд, и мы презираем простых любителей, хотя они-то и есть главная поддержка спортивного сообщества. Я склонен думать, что мир, в котором так поступают, мир, где так называемые «любители спорта», если говорить только о них, предпочитают в солнечный день сидеть у экранов и смотреть матч антиподов, в то время как в двух шагах на улице сражается команда местного клуба на глазах у кучки верных болельщиков и сочувствующих собак и кошек, а может, и нескольких слабоумных голубей, такой мир очень серьезно болен.
Все это говорилось к тому, что лично я, несмотря на удовольствие, которое испытываю, глядя, как мелькает между ракеток магический желтый мяч на великолепных кортах «Ролан-Гарроса», принятый и отбитый с безупречной легкостью и грацией виртуозами, этими монстрами — профессионалами тенниса, невольно испытываю двойственное чувство: восхищение и крайний скептицизм.
Вчера вечером, катаясь на велосипеде вдоль ограды «Ролан-Гарроса», я доехал до парка, где находятся городские прокатные корты, и мое внимание привлекли взрывы смеха и восклицания двух молодых игроков, довольно неловко посылавших друг другу мяч. И тогда я понял, что вот уже много лет я не видел и не слышал, чтобы на теннисном корте кто-то смеялся!
Спорт деградирует не потому, что мы относимся к нему слишком серьезно, а потому, что его лишают своеобразия. Притягательность игры в том, что мы придаем важности действию, которое этой важности не имеет. Когда игроки и зрители целиком подчиняются правилам и условностям, они действуют заодно, создавая иллюзию реальности. Тогда игра становится спектаклем жизни, в котором каждый участник исполняет определенную роль, как в театре. В наше время подобные занятия утрачивают свой характер иллюзии, особенно в области спорта. Воображение и фантазия нашим современникам неприятны, и, похоже, что мы решили уничтожить невинное удовольствие перевоплощения, которое когда-то очаровывало и утешало. В случае со спортом игроки, промоутеры, болельщики — все сопротивляются иллюзии. Первые отрицают серьезность спорта, они хотят, чтобы их считали людьми, развлекающими публику (отчасти, чтобы оправдать свои солидные гонорары). Промоутеры подстрекают зрителей к фанатизму, даже в таких видах спорта, как теннис, где традиционно царила некоторая сдержанность. Телевидение породило новую категорию зрителей и превратило тех, кто присутствует на встрече и участвует, в тех, кто пытается попасть в поле камеры и привлечь внимание жестами и размахиванием флагов. Иногда самые горячие болельщики действуют более агрессивно, выбегая на поле или громя стадион после победы или поражения своей команды.
Вид на грани исчезновения
Четверг, 31 мая
Мате Виландер, поогорчавшись вчера на страницах «Экип» из-за поражения Фабриса Санторо, на которого он всегда смотрел с восторгом и игра которого, по его словам, представляет собой самую суть тенниса, заявляет:
Сколько места остается [подразумевается современная игра] хитрости, тактике, маневру, размышлению, восторгу от прекрасно сыгранного очка, удовольствию выйти из затруднительной ситуации, благодаря своим серым клеточкам, короче, всему тому, что составляет красоту тенниса? Меня беспокоит эволюция этого спорта, потому что она опасна для будущего.
Да, для меня тоже Санторо был большим утешением последних лет после тенниса, где игроки похожи на роботов, и, подобно Виландеру, я тоже опасаюсь, что, увы, такой тип спортсменов находится на грани исчезновения.
На эту тему мне хотелось бы рассказать следующее: в прошлом был когда-то шахматный гроссмейстер по имени Михаил Таль, который стал чемпионом мира всего один раз. Однако на протяжении тридцати лет он считался лучшим действующим игроком, лучшим, но не сильнейшим (если вы понимаете, о чем я, а по опыту я знаю, что человеку не всегда этого хочется…)! Объяснение содержалось в стиле игры Таля, вызывавшем восхищение своей изобретательностью, изяществом и вдохновляющим утопизмом. Некоторые поражения Таля восхищали больше, чем победы его соперников, ибо зачастую он терпел неудачу, будучи совсем близко к цели, задумав чудесную, захватывающую дух комбинацию, открывавшую бесконечные горизонты шахматной игры.
Одновременно с этим Таль был жертвой (это происходило во времена СССР) широкого поношения стиля его игры в пользу его соперника Ботвинника, который, словно математически запрограммированный бульдозер, утверждал стиль систематической беспроигрышной игры, как строительный инженер, которым он был по профессии прекрасный прототип советского идеала, если таковой существовал. Рядом с этим ледяным эталоном Таль олицетворял неприемлемый вызов своей элегантностью и фантазией, столь отвергаемым системой.
Я полагаю, что в современном теннисе происходит примерно то же самое, только под другим углом — под углом промышленного утилитаристского потребительства, мы все подвержены такому же непримиримому конформизму, типичному для бывшего советского режима, и, вероятно, совсем не случайно, что Санторо — в свое время лучшего дублера французской сборной — не взяли на Кубок Дэвиса. Подозреваю, что его стиль, такой же экзистенциальный, как и теннисный, чересчур смущал чиновников Французской федерации тенниса.
После маленького предисловия перейду к удовольствию, которое я получил вчера ближе к вечеру, у корта номер 7, наблюдая изумительные подачи и удары с воздуха испанца Наварро Пастора (107-е место в мировом рейтинге). Как чистокровный породистый жеребец, изящный и гибкий, этот игрок, который при первой возможности устремляется к сетке и каким-то чудом гасит удар с лёта (для меня, как можно догадаться, это высшее достижение в теннисных ударах!), олицетворяет собой не только анахронизм в мире профессионалов тенниса (о которых говорят, что они подходят к сетке, только чтобы обменяться рукопожатием в конце матча!), но и что-то вроде старомодного геройства, глядя на которое его соотечественники улыбаются, сочувственно покачивая головами и покручивая пальцем у виска.
Такой серии подач и ударов с лёта я не видел со времен Стефана Эдберга, с тем дополнительным преимуществом, что, подобно великим австралийцам семидесятых годов, Наварро Пастор умеет по инерции сопровождать мяч первой прямой подачи (волейболисты высокого класса в основном сопровождают то, что принято называть первой-второй, поданной более-менее низкой «свечой»). Надо сказать, что этому игроку удается поразительное число подач навылет (вчера он выполнил целых три подряд, как снайпер, попадая в одну и ту же точку центральной линии).