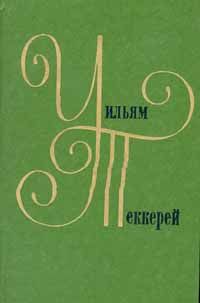Читать книгу 📗 "Искусство почти ничего не делать - Грозданович Дени"
Я глядел на ее строгую наружность девушки из хорошей семьи, красивое отсутствующее лицо, на неземное тело сильфиды, которого в то время я так вожделел, и мне казалось, что от ее слов у меня под ногами разверзается бездна, я в буквально смысле думал, что сейчас исчезну из этого мира.
Мне было двадцать четыре года, и это было моим первым любовным разочарованием!
И однако, от того, как я тогда ее слушал — застывший призрак моей ранней молодости, у меня осталось странное воспоминание, по правде сказать, почти похороненное под спудом стольких лет, об остром наслаждении от непередаваемого вкуса шоколада, растекавшегося у меня в горле. Вероятно, именно тогда я осознал умиротворяющее действие синестезии — разве незадолго перед этим я не прочел у Платона о том, что для пылких созданий вкус любви навсегда останется горько-сладким? Эта простая метафора вкупе с вполне материальным вкусом на моем языке какао, сахара и крема в столь умело дозированных пропорциях неожиданно удержала меня в этом мире и не позволила потерять голову от худшей из бед юности.
Я не только познал утонченную прелесть сумрачного наслаждения, сладковатый вкус меланхолии, но и с мрачным воодушевлением понял, что огромная настоящая жизнь, вмещавшая все восторги и возможные разочарования неизбежных перипетий (на которые, как я предчувствовал, будущее не поскупится), была в то же время так роскошно щедра, что в случае несчастья взамен всегда оставалась ничтожная мелочь, за которую можно ухватиться; и должен сказать, это убеждение, эта вера не покидала и не подводила меня с того самого дня, по примеру тех воинов (хотя и в обратном смысле), которые, сражаясь с неумолимым врагом, всегда держат при себе капсулу со спасительным цианидом.
У меня это было всегда;^*- в виде конфеты, съеденной украдкой (вроде тех, которыми мама успокаивала мои безутешные детские горести), или (на невыносимо скучном уроке) старой безвкусной жвачки, приклеенной под партой, которую всегда можно пожевать снова, — да, это всегда было маленькой капсулой какого-то конкретного счастья, которое я привык держать под рукой и которое можно вкусить на краю пропасти отчаяния, и крайне редко случалось, чтобы эта тактическая уловка — маленьким лакомством произвести переворот в слишком нежной (и неизбежно уязвленной) душе — не сработала.
Впоследствии я узнал, что шоколад, название которого происходит от древнего мексиканского слова xocolatl (означающего «горькая вода»), считался у майя пищей богов или, точнее, как говорится в ученой книге, где я это почерпнул, посредником между богами и человеком.
И все же в тот день моего первого большого крушения любви, когда с печальной улыбкой — неизгладимой из памяти — она ушла, пожелав мне удачи, навсегда повернулась ко мне спиной, чтобы шагнуть в то будущее, где для меня уже не было места, и потом, когда, чуть погодя, я и сам как неприкаянный побрел по пустынным аллеям (потемневшим от проливного дождя), помню, я горячо взмолился о том, чтобы насмешливый Купидон — я догадывался, что мучения его наивных жертв доставляют ему извращенную радость, — проявил бы достаточно сочувствия, когда я вновь окажусь мишенью его жестоких фантазий, и ниспослал мне столь же восхитительное шоколадное утешение!
Магия нескромности
Сойдя с поезда на Южном вокзале, я слился с брюссельским туманом и отправился на поиски некой улицы с сомнительной репутацией в квартале Шарбек, где, как говорят, Мишель де Гельдерод [24] создавал свои мрачные средневековые басни. Разыскивая же указанный мне адрес, я прошел мимо приоткрытой двери квартиры на первом этаже и не смог удержаться, чтобы не глянуть внутрь. Это была мастерская художника, почти пустая, с трогательно старыми стенами. Снедаемый любопытством, я отважился зайти внутрь и громко спросил, есть ли там кто-нибудь. Ответа не последовало. Дивясь собственной смелости, я прошел дальше. Передо мной оказалась средних размеров застекленная веранда с матовыми стеклами, залитая тусклым и каким-то фантастическим светом; в центре была приотворенная дверь, тоже стеклянная, через которую, как мне, не знаю почему, показалось, при моем появлении кто-то выскользнул; остальные стены были голые, никакой мебели, кроме красивого столика, низенького и круглого, на котором лежали блокнот и штемпельная подушка. На пыльном паркете валялись холсты и большие листы бумаги. Чуть дальше, тоже прямо на полу, лежали какие-то щетки, молоток и три миски, от которых сильно пахло клеем. Слева у стены стояла рама, а справа — три перевернутые к стене картины. Все вокруг точно вибрировало от чьего-то недавнего присутствия. Под конец справа в глубине обнаружилась еще одна закрытая дверь, а слева другая, открытая, за которой при осмотре оказался всего лишь чулан, освещенный простым слуховым оконцем, выходившим в маленький двор.
Несколько мгновений я разглядывал это призрачное пространство, практически лишенное всякого содержания, но которое каким-то совершенно таинственным образом заворожило меня настолько, что я забыл, зачем и куда шел. В довершение я не смог удержаться и по очереди перевернул все картины. Каково же было мое удивление, когда я увидел, что все они — превосходно выполненные в безмолвной, спокойной и прозорливой манере Моранди [25] — изображали эту самую мастерскую. Только свет на каждой немного менялся.
В голове у меня помутилось, пришлось встряхнуться и самого себя урезонить, потому что мне вдруг странным образом почудилось, будто я снова вижу один и тот же давнишний сон, в котором я неизменно двигался по трубе бесконечной спирали… Не знаю, сколько я так простоял совершенно зачарованный, а потом, позабыв о своей первоначальной цели, прошагал полгорода в обратную сторону и скрылся в своем гостиничном номере.
В тот вечер я забылся тяжелым сном, а на следующее утро проснулся с неодолимым желанием снова побывать в мастерской. Около одиннадцати, не в силах больше терпеть, я отправился туда. Дверь снова была приоткрыта ровно на столько, как и вчера. На этот раз я вошел без предупреждения, чтобы попытаться застать кого-нибудь врасплох, но все оставалось по-прежнему, за исключением, однако, того, что к картинам прибавилась одна новая. Повернув ее, я лишь увидел еще одну вариацию освещения, в остальном она не отличалась от прочих.
Три дня подряд я возвращался в это место в одно и то же время, и все повторялось вновь, словно я уже участвовал в каком-то ритуале, — на каждом новом полотне свет падал чуть иначе, другие же детали оставались неизменны. Утром того дня, когда мне предстояло вернуться в Париж, едва войдя, я заметил малюсенькую перемену в расположении вещей: рядом с раскрытым блокнотом лежал карандаш, и я прочитал слова, написанные прекрасным дрожащим почерком: «Спасибо за ваше чуткое участие». Взяв карандаш, я ощутил тепло только что державшей его руки. Я распахнул стеклянную дверь: передо мной был маленький глухой дворик и ни одной живой души…
По пути домой, когда ливень хлестал окна поезда тысячью дрожащих капель, я как никогда прежде отдался колдовскому очарованию их бесконечного, легкого и дружеского постукивания.
Панический трепет в стенах академии
Знаменитый искусствовед пригласил меня на публичную лекцию, которую он собирался читать в Академии изящных искусств, смежной с Французской академией. А поскольку я не только никогда не упускаю возможности приятно поскучать, но еще ни разу не имел случая переступить порог этого авторитетного заведения, то с готовностью согласился.
И вот я — оробевший при виде окружающего декора, подобный которому мне до сих пор приходилось видеть разве что по телевизору во время министерских докладов из Матиньонского дворца, — сижу на том месте, которое указал мне чопорный служащий.
С одной стороны я разглядывал освещенные кессоны потолка, огромные настенные росписи, изображавшие главные гражданские добродетели, галереи вдоль мезонина, откуда открывался доступ к стеллажам с тысячами томов с золоченым обрезом, полукруглые ниши со статуями знаменитых художников, стоящий передо мной столик, покрытый зеленой кожей, с располагающей к медитации лампой молочного стекла, а с другой стороны довольно многочисленное собрание, которое шумно перешептывалось в ожидании предстоящего действа и среди которого, как я по ходу отметил, я был самым молодым — остальные представляли собой семидесятилетнюю элиту парижских литературных кругов. Еще я прямо перед собой смог полюбоваться большой толпой увядших красавиц, выставлявших напоказ целый арсенал драгоценностей, при виде которых побледнел бы и самый прожженный альфонс. Что до мужчин — причесанных, в костюмах и при галстуках, — их одежда все же несла отпечаток той легкой небрежности и поношенности, который является достоянием почтенного возраста и придает дополнительной элегантности тем, кому больше нечего доказывать. На боковой сцене о чем-то оживленно беседовали председатель собрания и двое его подручных.