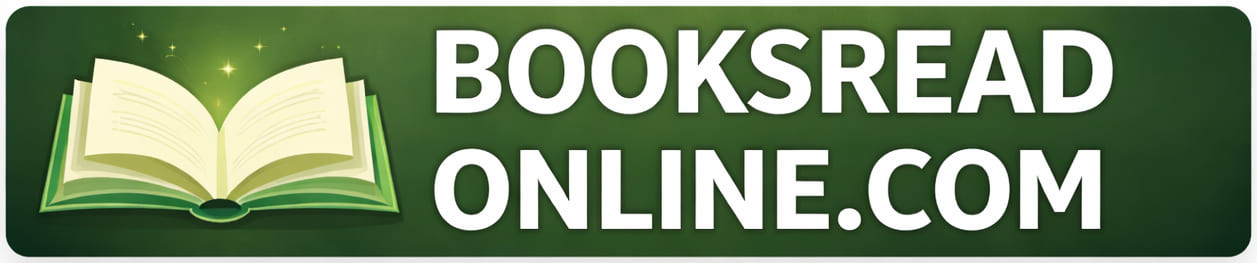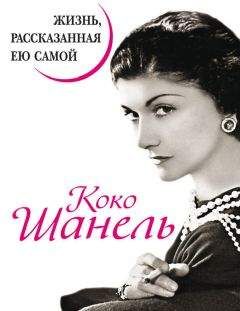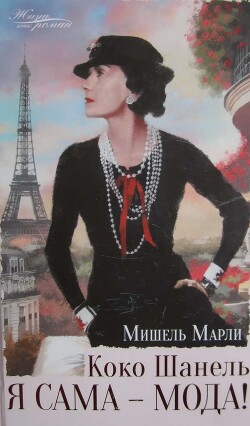Читать книгу 📗 "Аромат империй. «Шанель № 5» и «Красная Москва». Эпизод русско-французской истории ХХ века - Шлегель Карл"
Но времена меняются, мир ароматов семантически большевизируется: духи и косметика отныне называются «Золотой колос», «Новый быт», «Красный мак», «Красная Москва», «Спартакиада», «Герой Севера», «Авангард». А еще позже, уже во время бури и натиска первой пятилетки, они получат названия достижений и строек коммунизма: «Стратостат», «На посту», «Наш ответ колхозникам», «Пионер», «Танк», «Беломорканал», «Привет челюскинцам», «Колхозная победа». Новый запах становится знаком, торговой маркой нового восходящего класса. На коммунальной кухне запах щей смешивается с ароматами, от которых не могли отказаться уплотненные «бывшие». Антагонизм грязи и чистоты, благовония и зловония проникает и в политическую сферу, где речь идет о «чистоте рядов», о «гнилой интеллигенции» или о «партийных чистках». В глазах охранителей большевистской морали запах ладана, упомянутый в одной из песен Александра Вертинского, равнозначен распаду, декадансу, вырождению. Политических противников будут называть «троцкистско-пятаковскими выродками», чье место «на свалке истории» 61.
Реорганизация парфюмерной и косметической промышленности в конце Гражданской войны проводилась под лозунгом: долой производство предметов роскоши, обеспечим население дешевыми средствами гигиены и дешевой косметикой. Восстановление этой отрасли — важный аспект налаживания жизни после военного десятилетия с его миллионами погибших, раненых и обездоленных. При этом советская власть продолжила — поначалу неохотно — дореволюционную традицию. Стараясь перещеголять «Любимый букет императрицы», она стала производить мыло для ширпотреба и духи «Красная Москва». Но до реабилитации духов как символа высокой культуры, до создания собственно советского аромата, оставался один решительный шаг: формирование класса людей, претендующих на лучшую и более красивую жизнь, чем у простого населения. Это произошло в годы «великого перелома», то есть коллективизации, индустриализации и сталинских чисток. В 30-е годы сформировался социальный слой, который Милован Джиллас назвал «новым классом» 62. Производство собственных советских ароматов стало главной заботой парфюмерной индустрии, и она развивалась и модернизировалась в ритме пятилеток. Ее флаконы отвечали духу времени. На смену изящным сосудам в форме цветов и рекламным плакатам, говорящим о роскоши, приходят более простые, геометрические и абстрактные емкости, на коих красуется марка ТЭЖЭ. Ясная, лаконичная форма сближает их с теми сосудами, стилистическим образцом для которых на Западе послужил флакон «Chanel № 5» — знак, что модерн двигался двумя путями. Метаморфоза флакона в постреволюционной России заставляет вспомнить о решении Коко Шанель презентовать «Chanel № 5» в простом стеклянном флаконе квадратной формы. Ее биограф, Эдмонда Шарль-Ру, описывала его так. «Флакон Шанель был полным контрастом пышному оформлению продукции ее конкурентов. Все изготовители духов полагали, что изыски вроде пузырьков с амурчиками или урн, разукрашенных цветочками и кружевами, повышают покупательский спрос. А Габриель ввела в оборот остроугольный блок, и он замечательным образом подчинил фантазию покупателя новой знаковой системе. Теперь уже не емкость вызывала жажду обладания, но ее содержимое, на спрос влиял не объект, а орган чувств: обоняние покупателя интриговала золотистая жидкость, плененная в обнаженном хрустальном кубе и показанная лишь для того, чтобы пробудить в нем желание.
Многое можно сказать и о четкой графике этикетки, которая делала немодными округлости и завитушки прежних пузырьков с духами, и о строгой гармонии оформления, в котором присутствовал только контраст черного и белого (снова и снова черный!); и, наконец, о названии. Единственное слово и простое число в витрине производили эффект властного призыва: „Ставьте на пять!“» 63. Новый дизайн превосходит и отметает все прошлое как несовременное и отсталое. При ближайшем рассмотрении выясняется, что речь шла не только о случайном творческом озарении, но об эстетической форме прощания с минувшей эпохой. Так же обстояло дело с флаконом «Красной Москвы», который спроектировал Андрей Евсеев для советского комбината ТЭЖЭ. По слову Ленина, Россия шла к высотам цивилизации своим путем. И все-таки, несмотря на раскол мира, обе формы модерна имели между собой больше общего, чем они полагали 64.
Прощание с belle époque. Одежда для нового человека. Шанель и двойная революция Ламановой
В Москве, как и в Париже, все указывает на разрыв с прошлым не только в мире ароматов, роскоши и моды, но и во всем обществе. Мир, глубоко потрясенный Первой мировой войной, с ее миллионами погибших и раненых, с ее физическими и психологическими травмами, снова пришел в движение. В России мировая война привела к революции и продолжительной гражданской войне. Она всколыхнула Российскую империю, или то, что когда-то было империей, до самых ее далеких окраин. Потерпел крушение не только политический режим и государственный порядок, но весь уклад жизни. Война и революция оказались почти катастрофическим катализатором всех социальных процессов. Они открыли дорогу идеям, витавшим в воздухе задолго до войны. Они способствовали реформам, которые созревали давно, еще в лоне «прекрасной эпохи». В русском случае проекты реформ вышли из берегов и обернулись всеобъемлющей революцией жизни. Речь шла «о целом», а не о деталях. Речь шла о новом образе человека, об изменившейся роли женщины и отношениях полов, об авторитете и иерархии власти, об изменившемся отношении к труду и досугу, о новом осознании плоти.
То же стремление — освободиться от старых укладов, открыть дорогу Новому — было характерно (при всех различиях) и для вышедшей из войны Европы. Во всей Европе, не только в России и во Франции, зазвучали почти такие же рассуждения о будущем образе жизни. Жизнь в будущем виделась более красивой и более достойной. Индикатором этого преобразования Вальтер Беньямин назвал моду. И отвел ей центральное место в своем эссе о Париже, столице XIX века. По мысли автора этого незавершенного, но грандиозного исследования, мода предвосхищает и указывает будущее. «У философов мода вызывает жгучий интерес благодаря ее поразительным предвидениям. Общеизвестно, что изобразительное искусство не раз опережало воспринимаемую реальность на много лет. Улицы и залы, сияющие разноцветными огнями, можно видеть на полотнах, написанных задолго до того, как техника изобрела световую рекламу и прочие осветительные устройства. Художник предчувствует грядущее намного раньше, чем светская дама. И все же мода, благодаря своему несравненному женскому чутью, находится в более постоянном, намного более тонком и точном контакте с вещами будущего. Каждый сезон в своих новейших моделях подает тайные сигналы о грядущих событиях. Тот, кто сумел бы их понять, знал бы наперед не только о новых течениях в искусстве, но и о новых законах, войнах и революциях. В этом, без сомнения, заключается великое очарование моды, но и трудность сделать ее плодотворной» 65.
«Смена парадигмы», которую Эдмонда Шарль-Ру связала с созданием «Chanel № 5», коснулась всей моды в целом. При этом представление о моде будущего а-ля Шанель поразительным образом совпадает с представлением о моде для Нового Человека, которое в 20-е и 30-е годы сформировала Надежда Ламанова, главный кутюрье Советского Союза 66.
Габриель Шанель была не единственным первопроходцем. Еще до Первой мировой войны подготовительную работу проделал пионер французской моды Поль Пуаре. «В одночасье, исключительно в угоду линии, из моды исчезла орнаментика. И на авансцену вышло платье, отвечавшее требованиям времени, скроенное модельером по законам логики…» — пишет о нем Эдмонда Шарль-Ру. Но именно Габриель Шанель в 1916 году осуществила прорыв, миновав точку невозврата. «Право женщин на удобство и свободу движений, возрастающее значение стиля за счет отказа от аксессуаров и, наконец, внезапное признание дешевых материалов — все это само по себе создавало возможность достичь элегантности, которая в ближайшем будущем станет доступной большинству женщин… Впервые революция в дамской моде не изобретала очередное ухищрение, но бесповоротно устраняла всякую игривость. Дело в том, что полотно джерси не поддается обработке. Достаточно одной спущенной петли, и ткань распускается. Всякая другая на месте Шанель сдала бы позиции. Но не она. Она нашла единственный выход: упростить крой. Платье-рубашка заканчивалось намного выше лодыжки. Теперь женщина, ставя ногу на ступеньку, не должна была приподнимать подол. Шанель уничтожила этот многовековой жест, которого каждый раз сладострастно ожидали мужчины. Эпоха той женщины, эпоха тысячи складок на корсете и облачков вуали на шляпке закончилась… „Женщина, влачившая за собой длинный шлейф своего сиреневого платья“ исчезла навсегда. С этих пор женщина обретает свободную поступь, становится личностью, может легко одеться и раздеться. И с ней нужно держать ухо востро… Впрочем, новый тип женщины мог и разочаровать. В ее гардеробе не было никаких намеков, и не стоило их искать.