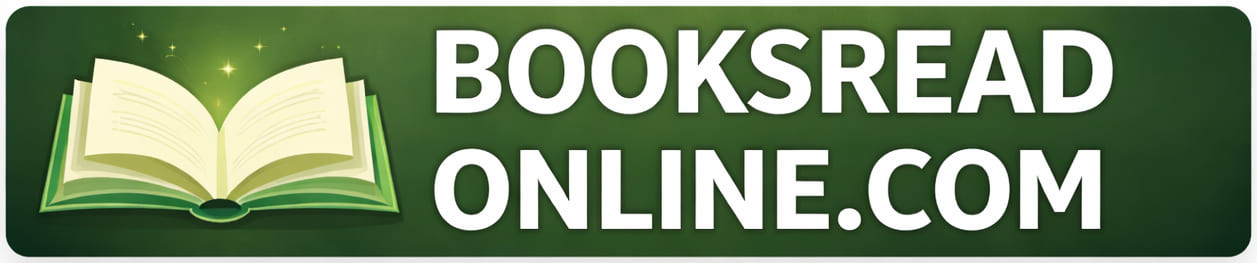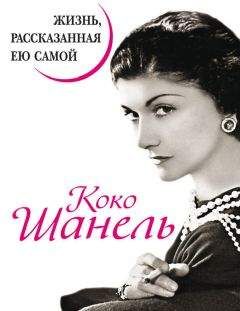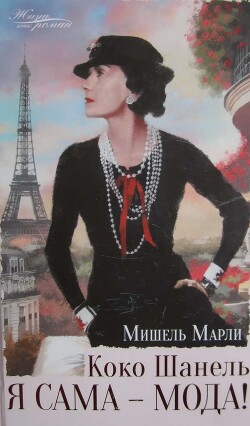Читать книгу 📗 "Аромат империй. «Шанель № 5» и «Красная Москва». Эпизод русско-французской истории ХХ века - Шлегель Карл"
Шанель словно снимала мерку со всех мест, где ей довелось побывать, и преображала их в то, что потом стало ее стилем. Из своей юности взяла практичность и строгость черной одежды; на бегах, теннисных кортах, курортах и прогулочных яхтах оценила спортивность богатых мужчин; подсмотрела у матросов полосатые тельняшки, у рыбаков — куртки, у русских крестьян — вышитые рубашки. Она возвела безыскусность в ранг добродетели, а во время войны сделала ставку на джерси и создала из трикотажа новый стиль. Когда речь шла о совершенстве, она была готова платить самую высокую цену, как было в случае решения в пользу «Chanel № 5».
Ее вдохновляли сценография и костюмы русских балетов, но и она сама показывала на театральных подмостках свои собственные модели. В балете «Le Train Blue» (Жан Кокто, Дариюс Мийо, Сергей Дягилев, премьера 13.06.1924), где любовная история разыгрывается на пляже, курортники, теннисисты, игроки в гольф выходили на сцену не в театральных костюмах, а в настоящей одежде, спроектированной Шанель. Спортсмены, голые ноги, теннисные туфли и туфли для гольфа, купальники — все было настоящим 75. Девиз Шанель: «Как можно больше убирать, как можно меньше оставлять, ничего не добавлять… Единственная красота — это свобода тела» 76. После премьеры 24 июня 1924 года известный меценат и знаток искусства граф Гарри Кесслер с восторгом записывал в дневнике: «Две сказочные метаморфозы всей современной жизни: преображение в поэзию нынешних будней и прежде всего — современного спорта. Теннисистки, акробаты, гимнасты, борцы, пловцы и пловчихи кажутся сошедшими с греческих фризов и в то же время выглядят суперсовременными спортсменами» 77.
Надежда Ламанова имела дело с общественной средой, где одежда и мода явно стали вопросом классовой борьбы. После окончания Гражданской войны вместе с рутиной повседневной жизни возвращается и мода: возобновляет работу трикотажная фабрика Керстена под названием «Красное знамя» 78. В двадцатые годы шла борьба за одежду для «нового человека», и исход этой борьбы отнюдь не был предрешен. Неразберихе НЭПа мир обязан одной из самых потрясающих глав в истории моды XX столетия. За сумятицей мировой войны, революции и Гражданской войны последовал такой взрыв творческой активности, что в течение одного десятилетия в культуре моды возродилось к новой жизни все, что уцелело с дореволюционных времен. Расцвели махровым цветом ультрарационалистические концепции. Авангардные модельеры модной одежды исповедовали только чистую целесообразность, отвергая все традиционные представления о красоте. Борьба за модный силуэт сознательно велась как борьба между классами, между старым и новым, между прошлым и будущим. В старые заведения, кинотеатры, кабаре валом повалили посетители — «бывшие» буржуи и нэпманы. Снова вошли в моду такие символы довоенной жизни, как недавно еще запрещенные танцы: танго, фокстрот, тустеп. Примерно тот же антураж запечатлел Отто Дикс в своих зарисовках Берлина «золотых двадцатых»: костюмы из тканей «с искрой», глубокие декольте, боа из перьев, вечерние платья гладких силуэтов и без талии, длинные мундштуки сигарет, туники, сто́лы — одежда, которая после мускулистых фигур пролетариев эпохи военного коммунизма подчеркивала, скорее, гомосексуальный и бисексуальный элемент.
Надежда Ламанова уже давно, после основания первой советской швейной лаборатории (1919) [15], писала о том, как представляет себе расставание с модой погибшего мира. Революционная одежда должна быть ни шикарной, ни роскошной, но прежде всего практичной, из недорогих тканей, без избыточного декора, украшений и орнаментов. Она должна повышать культуру быта, служить не только богатому классу, но всему населению в целом. Статная женщина страны победившего пролетариата и крестьянства перестанет играть роль служанки или украшения мужчины, ее трудно вообразить в вечернем туалете. Экспериментальной площадкой для одежды Нового Человека была главным образом театральная сцена, где можно было конкретно представить образцы этой новой одежды. Здесь, в России, путь от эскизов к балетным постановкам Русских сезонов привел к экстравагантным декорациям и костюмам Советского авангарда Николая Евреинова, Всеволода Мейерхольда и Александра Таирова. И абстрактно геометрические костюмы в фильме «Аэлита» по научно-фантастическому роману Алексея Толстого (1924) также можно трактовать как демонстрацию авангардистской моды. Художники, стремившиеся к радикальному упрощению форм, такие как Казимир Малевич, Варвара Степанова и Любовь Попова, теперь тоже занялись проектированием тканей и платьев, используя краски и линии русского прикладного искусства 79.
Местом, где столкнулись эти две параллельные и все же столь различные тенденции в производстве, была Международная выставка декоративного искусства и художественной промышленности в Париже (1925). Спустя четверть века после Всемирной выставки 1900 года она должна была продемонстрировать возрождение и ведущую роль Франции после столь разрушительной войны. Программа была весьма амбициозной: в Большом дворце и павильонах между площадью Согласия и площадью Альма были представлены только новейшие достижения искусства и техники. По вполне очевидным политическим причинам Германию не пригласили участвовать в выставке. Но были приглашены представители Советского Союза, чья экспозиция оказалась одной из самых посещаемых и обсуждаемых. Миллионам посетителей был предложен для обозрения богатый ассортимент современного искусства. Центрами притяжения оказались павильон Константина Мельникова, с одной стороны, и павильон Ле Корбюзье — с другой. Но и советский дизайн, искусство плаката и мода, связанные с именами Эль Лисицкого, Александра Родченко и Надежды Ламановой, вызвали огромный интерес. Их ткани, платья, игрушки, украшения из самых простых материалов были восторженно встречены западной публикой и принесли мастерам высшие награды. Вручение Гран-при происходило в атмосфере всеобщей симпатии к советской России и связанных с ней необычайно высоких ожиданий 80.
На Экспо-1925 был окончательно преодолен стиль Серебряного века. На этот раз в Париже экспонировалось только самое новое: Баухаус (хотя никого из немцев официально не пригласили), Ле Корбюзье, кубизм, искусство ацтеков. Поль Пуаре, основавший свою фирму моды и духов в 1922 году, играл в павильоне Amours [16] на пианино, которое опрыскивало публику духами. Во Дворце элегантности наряду с платьями от Жана Пату, Шанель, Жанны Ланвен и Луизы Буланже были выставлены ткани от Пуаре, шелка, осветительные приборы, мебель, хрусталь от Лалик, лаковые изделия от Дюнана, украшения от Картье, золотые и серебряные изделия от Кристофле, художественное литье и фарфор, французский и заграничный. Особое условие состояло в том, что все экспонаты должны были отличаться ясными формами и линиями, скромным декором и не слишком броским рельефом. Успех ар-деко был бесспорным 81. В советском дизайне публику привлекали фольклорная красочность, экзотика и «примитив»; с другой стороны, советская рабочая одежда не чуралась никакой жесткой функциональности. Все это, вместе взятое, вызвало наибольший интерес посетителей и принесло Надежде Ламановой высшую награду — Гран-при.
Что значила Экспо-1925 для Шанель? «Эта мода было то что надо! Ее ввела она, Шанель. Но если стиль ар-деко в профессиональном отношении не был для нее новостью, то общее социальное значение выставки было огромным, и его уже нельзя было отрицать. На этом ярмарочном шоу блистала парижанка в „маленьком черном платье“ от Шанель». В 1926 году журнал «Vogue» (американское издание) назовет его The Chanel Ford. Ведь автомобиль, который был некогда предметом роскоши, фирма «Форд» сделала доступным для миллионов обычных граждан. Вот и простое элегантное платье, некогда доступное только миллионершам, фирма «Шанель» сделала доступным и не столь богатым женщинам 82.