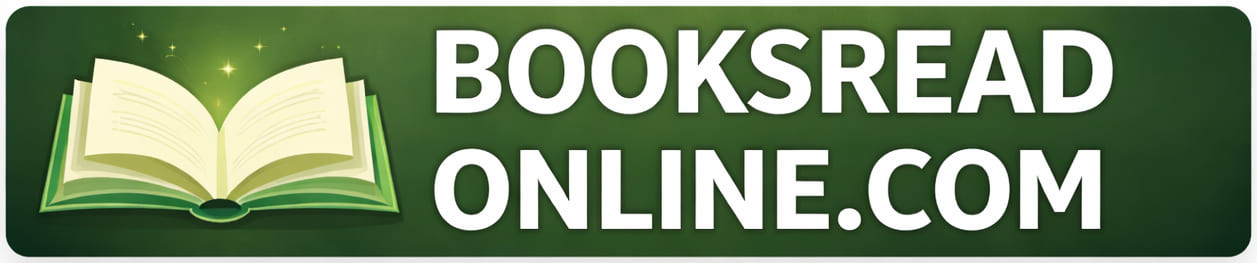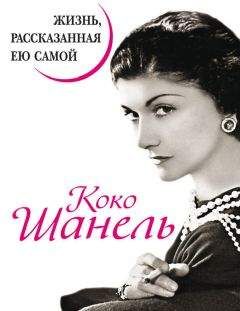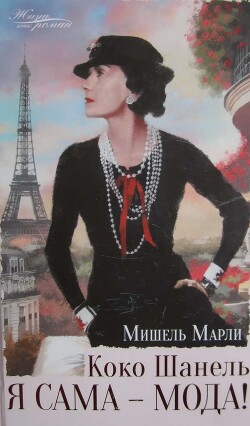Читать книгу 📗 "Аромат империй. «Шанель № 5» и «Красная Москва». Эпизод русско-французской истории ХХ века - Шлегель Карл"
Ламанова тоже создавала моду, в которой сочетались вкус и качество, и, благодаря массовому производству, хорошая мода также стала доступной для простых людей. «Форд» как ориентир французской высокой моды, с одной стороны, и «форд» как ориентир советского проекта индустриализации, с другой, указывают на то, что на горизонте появилась третья сила: Америка.
Русские связи Шанель
Какой бы талантливой ни была модистка, это вовсе не означало, что она заведет знакомства в таких кругах и с такими мужчинами, которые проложат ей путь из ее маленького мирка шляпницы в высший свет. Должно было существовать место, где модистка Шанель могла встретить богатого аристократа Боя Кейпела, который не только станет ее любовником и поможет ей открыть первые бутики, но и познакомит ее с Клемансо, премьер-министром Франции, или с Уинстоном Черчиллем, чей звездный час еще впереди. Должно было существовать место, где эта модистка могла познакомиться с герцогом Вестминстерским, самым богатым человеком в Англии, в чьих поместьях она много раз будет гостить. И должно было существовать место, где она встретит русского великого князя, а тот, в свою очередь, вспомнит парфюмера из Санкт-Петербурга, вернувшегося после революции во Францию.
И оно существовало, это место, где обретался мир «прекрасной эпохи» со всеми ее укладами, привычками и деньгами. Место, где находили приют те, кто потерпел жизненное крушение, ибо принадлежал к обществу, погибшему во время войны и революции. Место, куда со всего мира съезжались самые восприимчивые к духу времени артисты, литераторы, художники. Таким местом был Париж, столица XIX века. После Первой мировой войны, прежде чем центр напряженных творческих поисков переместился из Европы за океан, Париж еще раз выступил в полном блеске. Из всемирных выставок, проводившихся с середины XIX века, парижские выставки 1900, 1925 и 1937 года более всего запомнились публике. Экспо-1900 — своей Эйфелевой башней, ибо в конце века [17] она показала новый масштаб технически возможного; Экспо-1925 — своей амбицией вступить в изменившийся мир столь же победно, как она вышла из «катастрофы XX столетия»; Экспо-1937 — павильонами СССР и Германии, давно преодолевшими уровень Эйфелевой башни и заявившими новый масштаб монументального и тотального. В Париж стекались миллионы людей, желавших посмотреть на мир и заглянуть в будущее, в сущности, все, кто хотел присутствовать на этом грандиозном зрелище. Это были богатые рантье и бездельники «вчерашнего мира» (Стефан Цвейг), ценители роскоши и моды. Они могли позволить себе все, но понимали, что под лакированной поверхностью благополучного мира готовится нечто небывалое, невообразимое, что грядет Апокалипсис. Утописты, невротики, пророки, экспериментаторы улавливали сигналы, поступавшие в Европу со всего света. Они ощущали связь с подводными течениями и настроениями, предчувствовали освободительные движения, мятежи, массовые убийства, покушения, природные катастрофы, неслыханные изобретения. Туристы со всего света хотели увидеть, чего достигла Европа в расцвете своих сил 83. Африканцы и азиаты внимательно слушали лекции в университетах и академиях и разговоры в кафе, лелея надежду освободиться от влияния Европы. Американцы вроде Эрнеста Хемингуэя и Гертруды Стайн бродили по Лувру в поисках себя и потерянного поколения и целыми днями спорили в кафе, приходя к выводу, что у американцев впереди свой собственный образ жизни. Англичане и немцы, свободно владевшие французским, надеялись привезти отсюда домой что-нибудь из более утонченного европейского искусства 84.
Но прежде всего — это были русские. Они впервые выступили в Париже как великая культурная держава Европы. В Париже, на чужой земле, за границей встречались друг с другом те русские, которым больше негде было встретиться. Все они, вместе взятые, явили собой русскую культурную диаспору, которой суждено было оказать огромное влияние на свое окружение, до и после войны, до и после русской революции.
До войны Париж, наряду с Италией, был главным местом притяжения русских путешественников. Русских аристократов ежегодно тянуло на курорты Средиземного моря, где они проводили бархатный сезон на собственных виллах или в роскошных отелях. На Лазурном Берегу они основали колонии в Ницце, Сан-Ремо, Каннах, Антибах. На Атлантическом побережье, в Биаррице и Довиде, их ожидал сервис, отвечающий самым высоким требованиям комфорта, включая русские православные церкви и синагоги. Когда в начале войны и особенно после революции состоятельные русские перестали приезжать на курорты, это стало весьма тяжелым экономическим ударом для курортов. Все более значительную группу составляли туристы, путешествующие с целью образования, и для них главным событием большого тура по Европе был Париж. В каждом русском путеводителе того времени описана топография парижских достопримечательностей, гостиниц и прочих заведений. Расширение железнодорожной сети, особенно «Норд-экспрес» Санкт-Петербург — Париж, способствовало общению и обмену между мирами, прежде довольно далекими друг от друга 85. Но еще со времен Французской революции во Франции находили политическое убежище диссиденты и борцы за свободу со всего света. В XIX веке Париж стал центром эмиграции русских революционеров, и там же получала образование русская интеллигенция. Революционные демократы, оппозиционеры всех мастей сделали Париж, наряду с Лондоном и Женевой, явкой и перевалочным пунктом борцов с самодержавием.
Казалось, что в Париже все художественные направления, будь то импрессионизм, сецессия, символизм или различные течения дадаизма и сюрреализма, возникали раньше, чем в других столицах. Из Петербурга, из Риги, из Киева и Варшавы в Париж съезжались русские интеллигенты и будущие знаменитые художники: Марк Шагал из Витебска, Александра Экстер из Киева, Михаил Ларионов из Москвы. Российских мастеров заново откроют в конце XX века на крупных выставках, таких, как «Парижская школа» или «Париж — Москва» в Центре Помпиду 86.
Кульминацией русского присутствия и его влияния на мировое искусство стали Русские сезоны и Русские балеты, душой которых был импресарио Сергей Дягилев. До своего отъезда из России в 1906 года он был директором Императорских театров в Санкт-Петербурге, куратором выставок и основателем задающих тон журналов об изобразительном искусстве. В Париже ему удалось нечто грандиозное: гармонически сочетать в едином зрелище разные виды искусства — музыку, танец, слово, пение, живопись. С ним работали композиторы (Игорь Стравинский, Дариюс Мийо, Эрик Сати, Сергей Прокофьев), хореографы и танцоры (Леонид Мясин, Серж Лифарь, Борис Кохно, Вацлав Нижинский), балерины (Тамара Карсавина и Бронислава Нижинская), художники (Пабло Пикассо, Хуан Грис, Фернан Леже, Сальвадор Дали, Леон Бакст, Александр Бенуа) — и модельер Габриель Шанель. Премьеры Русских сезонов вошли в историю музыки: «Весна священная», «Жар-птица», «Любовь к трем апельсинам», «Свадебка», «Стальной скок»… Эти представления были не только театральными, но и общественными событиями, и на них собиралась публика со всего света. Сергей Дягилев со своей труппой практически без перерыва гастролировал: Париж, Монте-Карло, Лондон, Берлин, Вена, Будапешт, Буэнос-Айрес, Нью-Йорк. А когда в 1920 году он задумал возобновить «Весну священную», Габриель Шанель пожертвовала ему 300 000 франков. И в 1929 году именно Шанель приехала к умирающему Дягилеву в Венецию. Именно Шанель оплатила достойные похороны и поминки Дягилева. Именно Шанель предоставила в распоряжение Стравинского с семьей, когда они переселялись из Швейцарии во Францию, свою виллу «Бель Респиро» под Парижем. Именно у Шанель в Биаррице нашел приют великий князь Дмитрий Павлович, происходивший из царской семьи Романовых, но обедневший во Франции. Дамы высшего света, бежавшие после революции из России, теперь работали у нее манекенщицами, модистками, товароведами по дорогим тканям и аксессуарам 87. В чувстве собственного достоинства и элегантности этих «бывших» она угадывала родственный ей вкус и такт. Она была окружена русскими вещами. Вот что пишет об этом Эдмонда Шарль-Ру: «Тесно прилегающая рубашка из тонкой шерстяной ткани с неброской вышивкой на воротнике и манжетах плюс узкая юбка — одежда, обязанная своей элегантностью русской земле, но явленная в типично парижской форме. Создавая такой туалет, Габриель предлагала женщинам новое средство обольщения. Она не ошиблась. Прошлое ее любовников всегда было для нее источником вдохновения. Идея рубашки была воспринята хорошо, настолько хорошо, что пришлось организовать ателье вышивки. Руководство ателье было поручено великой княгине Марии. После развода со шведом княгиня вернулась в Россию, а после революции эмигрировала во Францию, где ее опекал единственный человек, которого она любила, — ее брат Дмитрий» 88. Княгиня презирала, даже ненавидела большевизм, для нее он был не столько политическим, сколько эстетически неприемлемым феноменом.