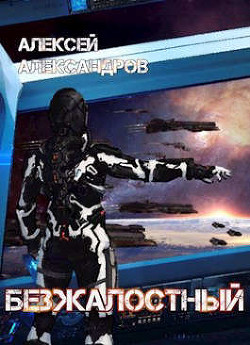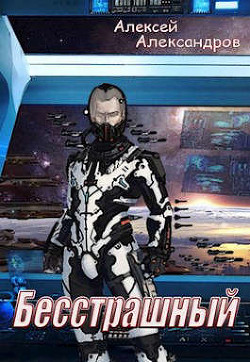Читать книгу 📗 "Невьянская башня - Иванов Алексей Викторович"
…В Туле он был захудалым мастером-пищальником. Тридцать три года назад по Оружейной слободе пронеслось известие, что царь Пётр Лексеич поменял Никите Антуфьеву его Тульский завод на какой-то Невьянский — где-то в Сибири у чёрта на рогах. Никита бросил клич: кто хочет лучшей доли — айда за ним. И Евсей Миронов решил: была не была! Он продал свою кузницу, скидал в телегу пожитки и укатил за Никитой Демидычем.
Завод оказался сущим вздором: всё сикось-накось и абы как. Ничего не работало. Те приказчики, что соорудили эту скорбность, — Мишка Бибиков и Сёмка Викулов — перессорились до мордобоя. А верхотурской воевода был озабочен лишь взятками с купцов на Сибирском тракте и на завод плевал.
Никита Демидыч и Акиньша бодались с воеводой, а они — две дюжины мастеров из Тулы и Москвы — возводили завод заново. Уезжая в Сибирь, они готовились плавить руду, лить чугун, ковать железо, а пришлось браться за лопаты и топоры. Это был адский труд: под осенними дождями, в зимнюю стужу под снегопадами, в канавах, полных грязи, когда землю отогревали кострами. Но они выгрызли, выдолбили ямы для свай, подняли фабрики и амбары, насушили угля и кирпича, сложили горны, изготовили водобойные колёса и молоты. Они построили завод из пустоты, из надежды на счастье, из веры в планиду Никиты Демидыча. Слободские крестьяне, которых Никита выдернул из воеводских лап, наломали и привезли руду, нарубили брёвен, напилили досок. И возле завода выросло селение — их заветный Невьянск.
А весной талые воды прорвали плотину. Пруд сбежал и затопил завод; многое из созданного было загублено, размыто. Мастера, не выдержавшие удара, уехали обратно домой. А те, кто не пал духом, в ярости заново взялись за лопаты и топоры. Никита Демидыч где-то отыскал знатока — плотинного мастера Леонтия Злобина, и тот по своим примеркам и намёткам насыпал такую плотину, что её вовек уже ничто не порушило бы. Невьянский завод возродился из праха. Осенью 1703 года он наконец выдал чугун.
Тот год был каторгой, а Евсей Мироныч вспоминал его как божье благословение. Он был молод и силён. Он приглядел себе подружку — бойкую Ульянку из Аятской слободы. На всём белом свете не было вожаков умнее Никиты Демидыча и упорнее Акиньши. Лесами зеленели все горы окрест, и свежестью дышал ветер, и всеми звёздами полыхало небо. Они строили самый могучий завод в державе. И они всё преодолели. Победили.
А теперь завод окреп и разросся впятеро против прежнего, и старый мастер стал для него обузой. Вроде не беда: мало ли дедов мирно тлеют подле внуков? Но завод порождал гордость. А гордость не дозволяла тлеть. Заводской мастер — не пахарь. Ему либо дело с огнём, либо ничего не надо.
Ульяна сидела рядом с мужем и тоже глядела в печь. За стенами избы трещал ночной мороз, на улице где-то гомонили подвыпившие солдаты.
— Заржавело сердце у тебя, Евсейка, — тихо и обречённо сказала Ульяна. — Сплавилось всё в тебе от пламеня. Завод всю жизнь твою выжег.
Евсей Мироныч не спорил. Дрова в печи вдруг занялись ярче, озарив и вогнутый свод из закопчённых кирпичей, и чугунную плиту на загнетке.
— Не зря Лепестинья говорит, что завод — от Сатаны, — добавила Ульяна. — Пыл евонный — то же пекло, геенна адская… Бог людям заводов не давал, в Писании о том и слова нету… Преисподнюю вы из недра-то подземельного в свои горны и домны вздымаете, и расплата за то — пепел и горечь калёная…
Евсей Мироныч знал, что Ульяна права. Грянул его урочный час — и вот он, пепел. Ничего у него нет, кроме завода, а завод отняли…
— Она ведь рядом с Невьянском-то, Лепестинья, — зашептала Ульяна. — Укрывается в лесах… Давай сходим к ней, Евсеюшка… Она отмолит тебя, отплачет, гордыню твою смирит и душу спасёт живую… Она милостивая, она о любови ангельской проповедует, не о смущеньи дьявольском…
Огонь уже разросся в печи, как волшебный куст — вот гибкие ветви, вот нежные листья, вот кудрявая лоза, вот трепетный цвет… И в дивном саду печного горнила оба они, старик и старуха, увидели сияющее женское лицо: прекрасное, печальное, ласковое. Это была вечно юная Лепестинья, и она поманила рукой, обещая утешение, забвение, утоление печалей.
Евсей Мироныч поднялся, как заворожённый, и неуклюже полез на шесток — так бедняки забираются в печь, когда нету бани. Ульяна упала на колени и слабо вцепилась мужу в ногу, но Евсей Мироныч отбрыкнулся. Он словно не чуял жара. Зев печи ослепительно полыхал, точно лётка у домны, переполненной жидким чугуном. Загудела тяга в дымоходе. Евсей Мироныч грузно развернулся в тесном горниле — пламя мгновенно охватило его, будто свёрток бересты, — протянул горящую руку, взял заслонку сбоку на загнетке и поставил её перед собой, отгораживая себя от мира.
Ульяна беззвучно завыла, зажимая рот.
Глава четвёртая
Невьяна из Невьянска
Красивая?.. За свой век он подмял немало красивых баб. Не в красе дело. Порой в человечьем роде встречается порода, как среди простого железняка встречаются магниты. Магниты будто бы хранят божий замысел на железо — так что порода и есть отсвет божьего замысла. Конечно, у баб эта порода отражается в красе. Но ещё и в каком-то княжеском, что ли, превосходстве… Да, Невьяна была из обычных заводских девок — и всё же им не ровня. Она никогда ничего не просила — кроме первого раза, когда ушла от Савватия. Она не прислуживала, не угождала, не заискивала и не ублажала. Милости она принимала так, будто ей отдавали долги. И даже в постели не смущалась наготы — нечего смущаться; она не закрывала глаза, точно испытывала своего любовника, и в её тихом крике звучала не жертвенная жалоба, а повеление.
На своде спальни у Акинфия Никитича кружили розовые ангелочки — толстощёкие и толстозадые. Их намалевал пленный швед, которого Акинфий Никитич выписал из Тобольска. Увидел бы такое батюшка — проклял бы. А Ефимья, жена, терпеливо молчала, как ей и должно. Ефимья вообще редко гостила в Невьянске. Ей, корове, назначено детей рожать и внуков баловать. Пускай и сидит в Туле возле мамок, бабок и нянек.
Про полюбовниц мужа она не заикалась. Акинфий Никитич построил два десятка домов по городам державы, и в лучших городах — в Тобольске и Казани, в Нижнем и Твери, в Ярославле и Костроме — хозяйствами управляли полюбовницы. Только в Москве был приказчик, потому что Ефимья иногда приезжала в Москву. Впрочем, при Невьяне все подруги Акинфия Никитича стали бывшими. А Невьяна вела два дома Демидова в Питербурхе. Два дома — и разные тайные дела, которые никому другому доверить нельзя. И сейчас на полу возле кровати валялось распечатанное письмо от графа Бирона — чтобы передать это письмо, Невьяна и приехала из столицы.
Акинфий и Невьяна разметались на скомканной постели, будто рухнули с неба, заброшенные туда взрывом. Акинфий уснул. Голова его лежала на упругом животе Невьяны — тяжёлая, как у вепря. Тонкими пальцами Невьяна перебирала его седеющие волосы. Сквозь прорези в дверце голландской печи огонь еле освещал кровать и угол стены, расписанный виноградными лозами. Казалось, что листья винограда ещё дрожат от страсти.
Акинфий вздохнул и пошевелил плечом — проснулся. Невьяна подумала, что сейчас он наконец-то затеет расспросы. Сначала Акинфий всегда брал её, и только потом расспрашивал. Выходит, любил.
— Ох, унесло меня, Невьянушка… Так что там с деньгами для графа?
Невьяна улыбнулась: она всё угадала точно.
— Ты же без караула. Значит, он в удовольствии.
Граф Бирон задумал возвести себе дворцы в Митаве и Руэнтале — это было дорого; за интерес Акинфия Демидова он истребовал пятьдесят тысяч.
— То я понял. Я про сами деньги.
Звонкой монеты в империи никому не хватало.
— Вместе с Федькой искали и собирали. Часть нашими червонцами нашли, часть лобанчиками, часть — дукатами, Федька их на таможне добыл.
Федька Володимеров, муж Марийки, дочери Акинфия, командовал петербургской конторой своего могучего тестя.
— А Шомбера ты видала? — допытывался Акинфий Никитич.