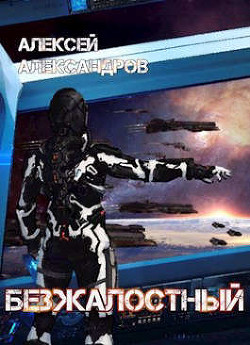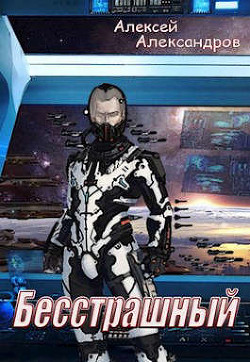Читать книгу 📗 "Невьянская башня - Иванов Алексей Викторович"
— Здорово, мастер, — бросил Савватию Акинфий Никитич.
Он нёс в руке медный котелок с углями.
Под крыльцо башни меж придавленных пустых арок намело снега. А на втором ярусе крыльца, на гульбище, для защиты от лиходеев арки были прочно заколочены толстенными досками, ведь в башне хранились слитки выплавленного серебра. По обледенелым ступеням чугунной лестницы Онфим, Акинфий Никитич и Савватий взошли к двери на гульбище.
Онфим заскрежетал ключом в замке, и морозно заскрипели кованые петли. Из сумрака гульбища обдало запахом извести, кирпича и металла. Это было дыхание башни. Вся башня сквозь толстые стены изнутри и по сводам — вдоль, поперёк и крест-накрест — была пронизана прочными железными тягами. Они торчали из стен снаружи; на них насадили чугунные шайбы, концы расщепили пополам и разогнули в стороны. Башня была намертво сшита металлом как жилами, она стала единой и цельной, словно свилеватое дерево. Хотя, по сути, была заброшенной.
На гульбище выходило две двери. Акинфий Никитич для проверки подёргал левую — заперто. Эта дверь вела на узкую внутристенную лесенку, что с поворотами поднималась в камору, оборудованную пробирным горном: там шихтмейстеры пробовали руды малым огнём. А на чердак палаты можно было взобраться лишь по чугунной винтовой лестнице.
— Жди здесь, — сказал Акинфий Никитич Онфиму, передавая котелок.
Крутыми оборотами треугольных ступенек они вскарабкались на чердак палаты, отгороженный решётками меж кирпичных столбиков. Над головой взметнулась кровля, положенная на тонкие чугунные стропила. Наискосок по чердаку, хрустя инеем, Акинфий Никитич направился к другой винтовой лесенке, гораздо ниже первой. Очередная дверь в чугунной раме открывала путь непосредственно в башню — в четверик. Савватий шагал за хозяином.
Тишина башни была зыбкой, неверной: в кирпичной толще неслышно стонали тяги — они напрягались, как струны, потому что на башню порывами наваливался зимний ветер; тайным сердцебиением дрожало эхо от клацанья курантов; тонко звенела наверху чуткая готовность колоколов.
— Башня в исправности, — в спину хозяину сказал Савватий; голос звучал гулко. — Что-то будешь с ней делать, Акинфий Никитич?
— Ничего не буду, — не оглядываясь, ответил тот.
Высокий объём столпа-четверика делился внутри на три яруса. Дощатые полы, деревянные лестницы, кирпичные стены шахты для маятника, редкие глубокие окна с чугунными оконницами и намертво вбитыми железными решётками… Верхний ярус — Слуховая палата — завершался сводами.
Зачем нужна эта башня? Она — не колокольня, не пожарная каланча, не дозорная вышка. Степан Егоров хотел посадить здесь дьячков из заводской конторы на всякую письменную работу — дьячки ему в ноги упали: не мучай, страшно, вдруг рухнет громадина?.. Гаврила Семёнов пытался разместить здесь мастерскую раскольничьих богомазов — те степенно отказались: в родных иконных горницах им сподручнее. Изредка шихтмейстеры плавили руды в пробирном горне, но этим делом башню не занять. После розыска, учинённого поручиком Кожуховым два года назад, из подвала церкви в палату башни перенесли заводские учётные книги. А ещё в башне хранили серебро, полученное при очистке меди, и потому по ночам на гульбище всегда караулил сторож. И конечно, были куранты. Это всё, к чему удалось приспособить затею Никиты Демидыча. Маловато для такой огромности.
Савватий поднимался вслед за Акинфием Никитичем, и его всё сильнее охватывало ощущение, что башня сама выталкивает людей. Она знает, зачем создана, а люди не могут угадать, поэтому пошли прочь. Башня жаждет быть собой, и грозно покосилась она лишь для того, чтобы люди от неё отстали.
Они выбрались на седьмой ярус — в первый из трёх восьмериков. Здесь уже посветлело: большие арочные окна были застеклены. Повсюду лежала снежная пыль. Акинфий Никитич смахнул её с низенькой лавочки и присел передохнуть. Уклон пола тут воспринимался особенно остро и тревожно.
Прямо перед Акинфием Никитичем находился механизм курантов: тонкая железная рама со сцепкой зубчатых колёс, рычагов и осей внутри. Заиндевелый механизм жил своей загадочной жизнью, в нём что-то щёлкало и перемещалось. Савватия всегда завораживало неизъяснимое преображение мёртвой тяжести гири, что висела в шахте на цепи, в раскачивание маятника и повороты шестерёнок. Как из ничего вдруг рождается движение? Что за сила разлита в воздухе, в пустоте, и как она перетекает в работу машины?..
Акинфий Никитич встал, не спеша обошёл механизм, уважительно трогая железные колёса, погладил тонкую ось к стрелкам циферблата, заглянул в шахту с маятником, задрав голову, посмотрел наверх, на колокола восьмого яруса: к этим колоколам от часов тянулись проволочные нити.
— Полезем на звонницу? — спросил Савватий.
— Я ж не пономарь, — усмехнулся Акинфий Никитич. — Я хочу увидеть, как музыка делается. Когда куранты бить будут? Который час-то?
— Не знаю точно, — ответил Савватий. — Бланциферная доска на улице.
— Полюбопытствую с галдареи, — подумав, решил Акинфий Никитич. — Авось не сверзюсь с башни…
Большой циферблат курантов загораживал арочное окно, обращённое на Господский двор. Восьмерик снаружи окружала галдарея — балкон на повале четверика. По галдарее можно было дойти до циферблата и узнать время.
Акинфий Никитич с треском отодрал примёрзшую дверку. После того как башня покосилась, на галдарею лишний раз никто не выходил: опасно — обратный уклон. Поскользнёшься — и кувыркнёшься через невысокую, ниже пояса, ограду из замысловатой чугунной решётки. А сейчас с ограды дружно спорхнули прочь круглые красные снегири.
Акинфий Никитич стоял на балкончике по колено в сугробе. Перед ним распахнулся хмурый декабрьский простор. Ровный и длинный вал плотины внизу, а за плотиной — завод: кровли фабрик, покрытые облезлым снегом, и дымящие трубы. Дальше — шатры острожных башен, базарная площадь и дома-дома-домишки… Прямо — Тульский конец, за ним выселки Забела и Бараба, в леса утыкается дуга Тагильского тракта. Правее — рябая Лебяжья гора, и сбоку на ней — Фокинские улицы. За окраиной Невьянска светлели пустынные покосы и выпасы, потом темнели березняки и осинники на былых заводских лесосеках, а потом до пологих гор привольно раскатилась тайга, словно смятая кошма. Всё небо заполнили зябкие сизые тучи, и лишь на горизонте бессолнечно желтело тусклое и сиротское зарево зимы.
Савватий подумал, что можно толкнуть Демидова в спину — и Демидова не станет. Исчезнет тот, кто забрал у него Невьяну. Савватия даже качнуло к двери. Но ведь не Акинфий виноват в его, Савватия, неизбывной печали…
И в этот миг на широкой бланциферной доске огромные латунные стрелки дружно вздрогнули. Малая указала остриём точно в облачный зенит, а большая — точно на полудень. Три часа. В механизме курантов закрутились стрекозиные лопасти жестяных вертушек и начал тихо вращаться блестящий медный вал, усаженный короткими шпеньками. Шпеньки стали поочерёдно нажимать на лопаточки с прикреплёнными проволочными нитями; эти нити улетали на верхний ярус; там зашевелились рычажочки передач, потянули языки колоколов. И над заснеженным простором сквозь заводские дымы поплыл, изгибаясь и рассыпаясь, пятый из восьми невьянских перезвонов.
* * * * *
Поначалу Акинфия Никитича терзали сомнения: сумеют ли русские мастера наладить ход английских курантов? Куранты эти сработал знатный лондонский часовщик Брэдлей, колокола отлил колокольник Фелпс. Ехать в страшную Россию Брэдлей не пожелал. Три года назад в порт Питербурха на корабле доставили из Британии гору ящиков с механизмами для «господина Демидофф» — и делай что хочешь. Но Акинфий Никитич справился. Точнее, нашёл человека, который справится. Мишку Цепнера, опытного чеканщика с Кадашёвского монетного двора. Мишка установил часы на башню и обучил обращению с ними невьянского механика Лычагина.
Акинфий Никитич посмотрел, как Савватий крутит ворот, наматывая на дубовую катушку длинную цепь с гирей — цепь свисала в шахту с маятником, — а потом отстранил мастера и сам докрутил ворот, опробовал, каково это.