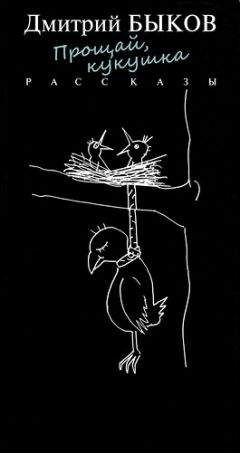Читать книгу 📗 "Прощай Атлантида - Фреймане Валентина"
внутреннее неприятие любых безоговорочных обязательств перед группой, требующих отказа от всякой критики и сомнений; короче, шагать в едином строю с кем бы то ни было меня никогда не тянуло. Возможно, это врожденный и притом крайний индивидуализм.
Сами уроки на новом месте мне тоже казались интересней, сложнее. В женской школе допускались послабления, главным образом в точных науках. История для меня все еще была самым увлекательным предметом, но учебная программа ничего особо нового мне больше предложить не могла. Новостью было то, что я вдруг начала увлекаться математикой, предметом вроде бы сухим и ненавистным для многих моих одноклассников. Решение задач доставляло мне истинное эстетическое наслаждение, которое я для себя даже сравнивала с художественными впечатлениями. В короткое время со всех сторон в мою жизнь вторглось множество новых, противоречивых явлений и событий, напор всех этих реальных впечатлений начал даже угнетать меня. Мир, люди были намного сложней, непонятнее, чем казалось мне раньше, я то и дело сталкивалась с непредсказуемыми поступками, нагромождением необъяснимых событий. Поэтому математика, особенно алгебра, но также и геометрия, и тригонометрия приносили мне большое психическое облегчение. Тут я могла своими силами достичь ясности. Успокаивало сознание того, что результат будет верным или нет, но в любом случае неоспоримым. Точное, ясное, правильное решение давало мгновенное ощущение счастья, подлинный катарсис. Какой простой и легкой была бы жизнь, если бы верное всегда было верным, думалось мне, а неправильное — неправильным. Все — по законам логики, и гак, что не поспоришь. Некоторое время я даже допускала, что перейду в стан математиков, но длилось это недолго. В какой-то миг мне показалось мало этой отвлеченной ясности. Слишком уж легкими и успокаивающими были эти бесспорные решения. Я вернулась к живым, то
правильным, то неправильным людям с их проблемами, которые невозможно окончательно решить. В надежде, что история и искусство помогут мне хоть как-то ориентироваться в темных джунглях цивилизации и психики.
В учебе мне трудно давались только два предмета — физика, которую я не любила, и химия, которую я очень не любила. Оценки но этим предметам у меня были посредственные. Этому все удивлялись, так как в школе эти предметы обычно воспринимаются в комплекте с математикой. Кто успевает по математике, успевает и по другим вышеназванным. Но я любила только математику, физика и химия меня не привлекали. Возможно, в этом был виноват учитель господин Бермам.
В гимназии Эзра, где работали профессионалы высокого уровня, господина Бермана — это не было тайной — держали потому, что он был участник боев за свободу Латвии, награжденный орденом, который в торжественных случаях с гордостью прикалывал к груди. Господин Берман был еврей, безукоризненно владевший латышским. Человек действительно хороший и, к сожалению, совершенно никудышный учитель. В кабинете химии эксперименты ему удавались крайне редко, и ученики каждый раз с повышенным интересом ждали, что же опять случится. Если, смешав два раствора, господин Берман обещал получить вещество красного цвета, оно обязательно оказывалось зеленым или синим, и все в таком же духе. Удивительно, что с его помощью мы ни разу не взлетели на воздух. Но господин Берман был таким добродушным, что ни руководство школы, ни ученики и родители не возражали против странностей его преподавания. К тому же у него была похвальная привычка даже полным невеждам ставить удовлетворительные оценки, так ч то мы успевали без особого труда. Благодаря всему этому в физике и химии я не смыслила ни бельмеса.
Одним из любимых учителей моего класса был поэт Павилс Вилипс, преподававший латышский язык и литературу.
Он не бы..ч обычным учителем, часто знакомил нас с различными, несхожими оценками произведений латышской литературы, со своим личным мнением и взглядами, и от нас ждал ответной откровенности. К тому же у него была милая жена — звезда музыкальных постановок театра Дайлес Эльвира Брамберга. С ее помощью Вилипс часто снабжал нас контрамарками. Самодовольные чиновники Ульмаииса его не жаловали: хорошо известны были его социал-демократические убеждения. Вилипса помню как истинно интеллигентного человека со свободными взглядами, он и нас уважал как мыслящих, свободных людей. Поэтому мы его любили. В компании моих друзей его единственного из педагогов приглашали на наши вечеринки. Случалось даже выпивать вместе. Благодаря своему учителю мы значительно продвинулись в понимании латышского языка и литературы. Он не особенно придерживался причесанной учебной программы ульмаиисовских времен, подпорченной и культом вождя, раздражавшим не только меня. Так, в истории культуры жизнеописание Ульмаииса оказывалось рядом с биографиями прославленных мировых величин, его сочинения — в непосредственном соседстве с лучшими образцами латышской литературы. К тому же требовалось учить наизусть и цитировать целыми кусками тексты вождя. У интеллигентных людей, которыми без сомнения мы, гимназисты, являлись, это вызывало гримасу недовольства. Культ личности Ульмаииса был смешон и безвкусен. Конечно, в сравнении с ужасающими моделями тоталитаризма он выглядел сравнительно безобидно, не был связан с кровавым насилием и угрозой смерти. Реакцией на гротесковую иконизацию вождя, культивируемую правящими кругами, была наша нескрываемая скука, приперченная изрядной дозой иронии.
Я начинала понимать, а поздней сполна убедилась, что всем авторитарным и тем более тоталитарным режимам, независимо от степени жестокости или умеренности их действий, одинаково свойственны крайняя узость мышления,
ограниченность и самодовольстио. Незыблемая с 1934 года однопартийная власть в Латвии, отсутствие оппозиции, критики и дискуссий, культ вождя были скромной увертюрой к той кастрации разума, которую уже другими, ужасающими методами террора внедряла эпоха культа Сталина. Я никак не могла понять, как этой обязательной прославляющей лексикой способны добровольно пользоваться и люди культуры и почему крепкий хозяйственник с широким кругозором Карлис Ульмаиис так охотно позволяет себя воспевать и прославлять. Ни Рузвельту, пи Черчиллю это ведь не было нужно. Много лет спустя, когда я вышла замуж за латышского литератора и театроведа Валта Гревиня, познакомилась с его отцом, известным поэтом, семьей и друзьями, принадлежавшими к старой латышской интеллигенции, я убедилась, что для достаточно большой части деятелей латышской культуры эта идеология национальной самодостаточности была неприемлема. В школьные годы я знала лишь только Вилипса, который, молча обходя дифирамбы, прославляющие Вождя, тактично помогал нам сохранить самостоятельный образ мыслей и суждения. К примеру, во времена Ульманиса школьная программа по литературе официально игнорировала такого талантливого латышского писателя, как Янис Эзериныи (не знаю точной причины этого), о котором мы так бы и не узнали, если бы Вилипс нас с ним не познакомил. Райнис в школьных программах, без сомнения, был, но это ведь та величина, которую любая влас ть желает себе приписать. К тому же его поэтика и мир идей настолько метафоричны, что каждый может там найти то, что хочет. Однако учитель Вилипс научил нас любить Райниса не как проповедника туманных идей, а как выдающегося мастера слова, поэта, имеющего неоспоримые заслуги в открытии поэтических возможностей латышского языка.
Особенно мне нравилось, что на уроках литературы мы читали пьесы Райниса в ролях. По-настоящему гордилась,
когда в Инду лисе и Арии Вилипс мне поручил роль Минтаута, хотя кругом хватало мальчиков, сказав: "У вас мужские мозги". Может быть, с точки зрения феминизма эта фраза выглядит крамольно. Нам было разрешено дискутировать даже на тему придворного поэта Ульмаииса Эд-варта Вирзы, к которому я всегда относилась неоднозначно. Мой эталон был другим. С первого дня, как познакомилась с латышской литературой, на свой международный писательский олимп рядом с Чеховым, Мопассаном и Кэтрин Мэнсфилд я вознесла Рудольфа Блауманиса — единственного из новых для меня латышских авторов, чей беспощадный и вместе с тем всепонимающий взгляд помог мне многое осмыслить в жизни и судьбах некоторых поколений латышей.