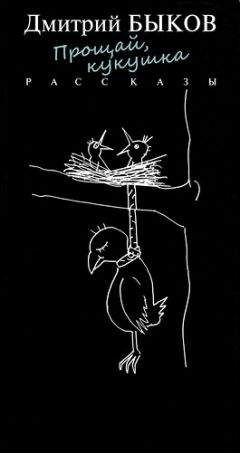Читать книгу 📗 "Прощай Атлантида - Фреймане Валентина"
Людмила Дмитриевна нас с Димой баловала, как собственных детей. Никогда не забуду далекий зимний вечер, когда она пригласила нас в гости, добавив, что нас ждет сюрприз. Неизвестно откуда Людмила Дмитриевна достала настоящую русскую тройку, и мы с Димой в санях под звон бубенцов мчались вдоль моря, словно во сне. Точь-в-точь как влюбленная пара на одной русской картине, вне всякой реальности. Она хотела, чтобы мы испытали настоящую романтику, ту, какую знавала она в молодости, в исчезнувшей навеки былой России.
Я тогда с ней много беседовала, вернее сказать — слушала ее удивительные рассказы. Они тоже были ничем иным, как воспоминаниями о ее затонувшей Атлантиде, которую никогда никто больше не увидит. Людмила Дмитриевна, как и многие девицы благородного происхождения, училась в Смольном институте в Петербурге. Там устраивались пышные балы с приглашением молодых офицеров. В шестнадцать лег она на гаком балу познакомилась с блестящим офицером, графом Обриеном де Ласси. Он был отпрыском ирландского рода О'Брайенов и французского де Ласси. Вспыхнула любовь с первого взгляда, но шестнадцатилетней Людмиле родители не дали бы разрешения на брак. И тогда Обриен де Ласси с друзьями-офицерами как-то зимней ночью похитил невесту, сани под звон бубенцов неслись по заснеженным просторам России. Как в романе. В ту же ночь в какой-то деревенской церквушке простой поп обвенчал их. Родители решили, что лучше смириться с происшедшим. Суровая действительность вскоре вторглась в их рай. Умерла мать Людмилы, вскоре и отец предстал перед Богом, за ним последовал один из братьев. В конце концов в семье, не считая Людмилы Дмитриевны, остался только один брат, у которого наконец-то про-снулись подозрения...
Дело Обриена де Ласси прозвучало на всю Россию и вошло в историю криминалистики. Я сама читала о нем, в том числе в русской прессе Латвии. Па суде было доказано, что муж Людмилы убил своего шурина, ее брата. Вместе с неким доктором Панченко он привил своей жертве бациллы холеры, чтобы заполучить внушительное наследство. Обвиняемого защищал один из самых известных адвокатов России, которого не напрасно величали Златоустом. Дело приобрело широкий резонанс. Что случилось с осужденным, в моей памяти не сохранилось. Кажется, его приговорили к бессрочным каторжным работам, и он исчез в просторах Сибири.
Даже рассказывая об ужасном преступлении первого мужа, Людмила Дмитриевна не теряла самоироиии — одарив меня томным взором, она вдруг выдохнула: "Но какой все-таки был мужчина!".
Веяние старины я особенно чувствовала в тех случаях, когда у Людмилы Дмитриевны собирались подруги времен Смольного института. Среди них я помню выдающуюся актрису Театра русской драмы Лидию Мельникову. В камине просторного зала торжеств пылали поленья, на столе мерцали старинный фарфор и серебро. Сдержанный говор, аромат французских духов и хорошего кофе. Я словно бы оказывалась на страницах русского романа XIX века. Еще и теперь у меня перед глазами момент, показавшийся чистейшей сценой из Евгения Онегина. Служанка открыла дверь, на пороге возник маленький, сморщенный старичок, которого Людмила Дмитриевна представила остальным, сказав: "Моп ягеиг ОиЬогх, наш добрый сосед!" Месье Дюбуа оказался дряхлым французом, с XIX века неведомо почему и как застрявшим в России. Позже волной эмиграции его занесло в Латвию, где в Приедайне он и коротал остаток своей долгой жизни.
Никто из нас тогда не знал, что в действительности все мы проводим последние месяцы в мире, которого вскоре больше не будет.
ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
Кто забывает о жертвах,
гот убивает их во второй раз и окончательно.
Пауль Целая
ШОК БЕЗ ТЕРАПИИ. ПЕРВЫЙ СОВЕТСКИЙ ГОД
,Д.ума10, в июне 19-10 года далеко не нее догадывались, что эти дни обозначили решающий рубеж не только в жизни государства, но и в жизни каждого из нас. По-разному, даже диаметрально противоположно складывались людские судьбы, по стоит оглянуться назад, и становится ясно, что именно тем летом мы все переступили через порог, по ту сторону его необратимо осталась жизнь, которую, со всеми ее противоречиями, все же можно было назвать нормальной, человеческой.
Не могу вспомнить, по какой причине, но в 1940 году, когда я закончила гимназию, вступительные экзамены в университет проходили раньше, чем обычно, вскоре после выпускного. Впрочем, работала та же, что и прежде, приемная комиссия, требования были те же, все было вроде бы как всегда.
Я уже упоминала, по каким соображениям выбрала экономику. Никогда не жалела о годе, проведенном па факультете народного хозяйства, главным образом потому, что встретила там выдающегося педагога — профессора Эдгара Дунсдорфа, который читал нам историю мировой экономики. Общая, политическая история всегда меня интересовала, но теперь я хотела разглядеть те скрытые рычаги, что движут видимыми процессами. Именно поэтому я решила посвятить год факультету, на котором не собиралась оставаться. Замысел перейти потом на исторический не подлежа.'! I [ересмотру.
Надо сказать, профессор Дуисдорф меня выделял среди студентов и посвятил мне много времени также и индивидуально, заметив мою увлеченность и, может быть, потенциал. Знакомые студенты, учившиеся не первый год, предупреждали меня: Дупсдорф большой националист, евреев не жалует, так что будь настороже... В результате я в который раз убедилась: нельзя ни о ком а рпогг выносить категорические суждения. Со стороны профессора Дунсдорфа я не замечала ни малейшего предубеждения или недоброжелательности. Профессор не скрывал, что человеку с обыкновенным уровнем подготовки, выпускнику "нормальной" средней школы при изучении экономики придется столкнуться с серьезными трудностями. Нужно осознать, что предстоит приобрести внушительный багаж знаний, ибо экономику надо рассматривать в широкой связи со всеми этапами развития человечества. Дунсдорф видел, что кроме живого интереса у меня есть и некоторый запас знаний, я же, в свою очередь, нашла в нем учителя, о котором мечтала, который действительно мог дать мне больше, чем я могла бы освоить своими силами.
Но особенно я благодарна Эдгару Дуисдорфу за то, что он научил меня составлять научную картотеку и пользоваться ею. Самому плодотворному времени моей деятельности было суждено проходить в советских условиях, далеко не всегда нам были доступны мировые энциклопедии, специальная справочная литература и уж вовсе недосягаемы были компьютеры, взявшие на себя сегодня проблемы накопления информации и пользования ею.
Когда я начала учиться в университете, понадобилась новая основа и система для поддержания памяти. Вероятно, со временем я и сама пришла бы к ней, но Дунсдорф мне помог сэкономить время и труд в поисках правильного пути. Уже с самого начала он показал, что моя картотека может быть как объективной, так и субъективной. Например, информацию, полученную из одной книги, стоит разнести на несколько карточек с разными функциями и с моими комментариями. Систематизировать желательно не только объективные данные и факты, но и подмеченные мною проблемы и мои замечания. Я сразу поняла, насколько мне все это необходимо, и с радостью принялась за дело. То была система, которая мне в советские годы помогала, благодаря также и знанию языков, преодолевать отчужденность от культурных и научных процессов Западного мира. Позже, во время так называемой оттепели, появилась возможность читать книги и прессу в спецфонде — закрытом хранилище запрещенных или нежелательных печатных трудов. Оттуда ничего нельзя было выносить, за исключением того, что ты запишешь своей рукой. Все эго заносилось в картотеку, которую я годами собирала для своих специфических нужд. Прямо и косвенно ею пользовались и другие — коллеги, студенты, занимающиеся кино-, искусство- и театроведением. В ней легко найти необходимую информацию о личностях и фактах, а также проблематике и теории. Теперь, когда в нашем распоряжении не только щедрая россыпь литературы, но и электронные средства информации, часть картотеки, быть может, стала лишней. Все же она, моя картотека еще во многом исправно мне служит, притом не приходится бояться, что из-за электронного каприза будет стерта важная информация. Моим самым главным приобретением, быть может, было то, что все тысячи карточек я записывала сама, формулировки и комментарии — лично мои, а то, что я фиксировала собственноручно или на пишущей машинке, выгравировано в моей памяти.