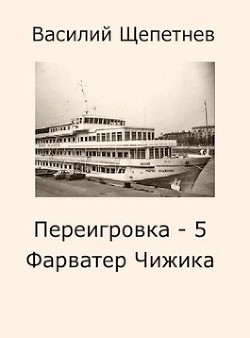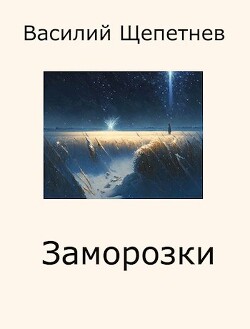Читать книгу 📗 "Защита Чижика (СИ) - Щепетнев Василий Павлович"
Но прошли минуты, и небожители оказались людьми вполне простыми. Собственно, я знал это и прежде, но всегда опасался, что когда они скучкуются в критическую массу, количество перейдёт в качество. Ан нет. Не перешло. Они перебрасывались словами, как токари в курилке, шла ли речь шла о клёве на Оке под Каширой, или о том, что мазь на яде гюрзы от прострела в пояснице вещь неплохая, но пачкает бельё. Один, с лицом мудрого филина, с жаром расхваливал гомеопатические шарики от простуды. Другой, не забывая приветствовать демонстрантов, делился опытом ношения наколенников из собачьей шерсти — «греет, знаете ли, лучше овечьей, и суставы не болят ничуть, прямо хоть снова в письмоноши» — когда-то в юности, ещё при НЭПе он почти год работал на почте. О судьбах мира, о глобальных противоречиях, о звёздных войнах или братстве народов — ни слова. Ни единого намека. Нет, я не сомневался, что наступит час, и они вернутся к ответственным темам. Но сейчас, под небом голубым, важнее были капли Вотчала и пластыри от бессонницы.
Под этот странный аккомпанемент — гул демонстрации и разговоры о шерстяных наколенниках — моя робость стала понемногу таять, и вскоре истаяла совсем. Чижик я, или не Чижик? Я повернулся к Берталану Фаркашу. Молодой, глаза горят, в них ещё не погас восторг от увиденного над облаками.
— Эсперанто, — начал я, чувствуя, как язык ведёт прямо до Киева, а, может, и гораздо дальше, и совсем в другую сторону, — прекрасная идея. Практически совершенная. Но… — я сделал паузу, вспоминая слова. — Нет, я не думаю, что мир когда-нибудь заговорит на эсперанто.
— Почему же? — живо откликнулся он. Голос у него был мягкий, с легким акцентом. — Берти, — добавил он тут же, улыбаясь. — Зовите меня Берти.
— Почему? — повторил я. — Да потому что эсперанто совершенен. А мир… — я махнул рукой в сторону бесконечных колонн, коробки ГУМа и прочих строений, всего этого огромного и сложного муравейника для двуногих, — … а мир, Берти, далёк от совершенства. Люди консервативны. Осторожны, как старые кроты в привычных норах. Они будут держаться за свой язык, за свои привычные, корявые слова, за свою грамматику, полную исключений, ещё очень и очень долго. Вечность, пожалуй. Ну, вот скажите, зачем это все им? — Я кивнул в сторону невидимых стран и континентов. — Зачем это англичанину, американцу, австралийцу? У них же есть свой язык, на котором говорит полмира. Зачем им учить что-то ещё? Ради абстрактной идеи братства? Они скорее поверят в летающие тарелки, чем в такую утопию.
— Но вы же сами говорите на эсперанто? Сейчас, — удивился Берти.
— Говорю? — я усмехнулся. — Как вы можете сами убедиться, говорю скверно. Книжно. Мёртво. Как попугай, заучивший фразы из разговорника. На ливийском базаре осенью, купил самоучитель. Из любопытства. Знаете вы ливийский базар? О, вы не знаете ливийского базара! Всмотритесь в него… Впрочем, об этом в другой раз. Купил самоучитель, выучил правила, слова — чтобы отвлечься, переключиться… А практики — ноль. Это все равно что вызубрить шахматный самоучитель, найденный в тюрьме во время пожизненного заключения, вызубрить, но ни разу не сесть за доску с живым соперником. Теория есть, а духа игры — нет.
С эсперанто мы перешли на русский — Берти учил его в школе, потом шлифовал в отряде космонавтов. Говорил он по-русски старательно, четко выговаривая каждое слово, чтобы никто не мог понять его превратно. Затем вернулись к эсперанто. Берти — эсперантист не только по факту изучения, но и по духу, пропагандист, истинный верующий в эту идею. Его глаза загорелись, когда зазвучали плавные, искусственные слоги. Речь идеального робота Дэниэла. Он меня понимал, я его понимал. Значит, работает? Значит, эта хитроумная лингвистическая конструкция, это дитя доктора Заменгофа, всё же жизнеспособно?
Валерий Николаевич Кубасов, стоявший чуть поодаль, следил за нашей беседой. Он прислушивался, не поворачивая головы, но его опытное ухо, привыкшее улавливать малейшие неполадки в гудении космического корабля, явно ловило странные звуки эсперанто. Он хмурился. Густые брови сдвигались на переносице. О чём это болтают? — читалось на лице. — О чем-то легковесном? Неуместном? Или, того хуже… не анекдоты ли рассказывают? Прислушивался, но толку, естественно, было мало. Эсперанто не просочилось сквозь броню секретности. Вот вам и первая практическая польза (или вред?) международного языка — создать маленькую зону непонимания для непосвященных, островок приватности на виду у всего мира.
И вот, наконец, прошла последняя колонна. Дикторы, слегка охрипшие, прокричали последние, потерявшие смысл от повторения, призывы. Гул толпы начал стихать, растворяясь как сахар в чае. Трибуна зашевелилась, ожила. Начался ритуал схождения.
Покидают трибуну Мавзолея не абы как, не толпой, не суетливо. Здесь всё подчинено незримому, но железному распорядку, где каждый шаг, каждый жест имеет значение, как в балете или на параде. Сначала, почти незаметно, вышли двое дежурных. Они, собственно, и не показывались на людях вовсе, стояли всё это время у самого входа, в тени, как стражи невидимого порога. На всякий пожарный случай. Словно призраки, они исчезли первыми. В полдень. Или около того.
Затем началось главное действо — схождение олимпийцев. Шли по старшинству. Не по возрасту, по авторитету, по должности. По месту в этой строгой, невидимой пирамиде. Вот тронулся, не спеша, степенно, один. Вот — другой. Вот — третий. Стельбов? Косыгин? Суслов? Или Суслов, Косыгин, Стельбов? А может, Косыгин, Стельбов, Суслов? Порядок следования — предмет бесконечных спекуляций иностранных корреспондентов. Говорят, Би-Би-Си отдало бы круглую сумму за одну лишь достоверную фотографию, запечатлевшую, кто за кем ступает на эту лестницу вниз. Лестница-то была неширокая, и довольно крутая. Пройти втроём — никак невозможно. Даже вдвоем — тесновато, приходится придерживаться за перила, слегка наклоняясь. И вот они спускались, эти вершители судеб, один за другим, с величавой неспешностью, каждый погруженный в свои думы — о рыбалке, о ревматизме, о шариках гомеопатии или о том, как бы поудобнее устроиться в машине. А я смотрел на них, потом на пустеющую площадь, и думал о совершенном языке для несовершенного мира, о Марсе, который подождет, и о том, что собачья шерсть, пожалуй, действительно, греет надежнее любых утопий.
Я видел: первым двинулся Стельбов. Он ступил на первую ступеньку, опередив Михаила Андреевича Суслова буквально на полшага. Но тут же, с почти балетной чуткостью, Андрей Николаевич слегка развернулся и подал руку Суслову — не столько для опоры, сколько как знак почтения, ритуального участия. Там, конечно, были перила с одной стороны, прочные, дубовые. Но с другой стороны теперь была рука Стельбова. Дружеская поддержка? Или тщательно отрепетированный жест, часть бесконечного спектакля под названием «Единство»? Суслов принял руку легко, почти не опираясь — скорее как символ, чем как необходимость. Его лицо, обычно замкнутое и непроницаемое, как древняя икона, на мгновение смягчилось едва заметной, может быть, даже искренней улыбкой благодарности. Это длилось секунду.
И уже третьим, словно догоняя, но без суеты, ступил на лестницу Алексей Николаевич Косыгин. Он шел нарочито бодро, почти подпрыгивая на носках, стараясь придать своей немолодой, отяжелевшей фигуре подобие легкости. Вот ни к чему ему эта бодрость, — Ни к чему вовсе. Ему бы снизить обороты, дать мотору передышку. Тогда, глядишь, и прослужит подольше. Может, три года, а, может, и все пять…
Но кто я такой, чтобы давать советы Председателю Совета Министров? Непрошеный совет, даже самый здравый, — все равно что камень, брошенный в глубокий колодец: тихий всплеск, да и все. Кто он, а кто я? За здоровье Алексея Николаевича отвечают большие люди. Товарищ Чазов, Евгений Иванович, в первую очередь. Большой учёный, светило, в кардиологии знает толк. Но вот знает ли он толк в самом товарище Косыгине? Понимает ли эту упрямую волю к работе, эту неумолимую ответственность, что давит на плечи тяжелее любого недуга? Легко ли лечить человека, для которого слово «долг» значит неизмеримо больше, чем «жизнь»? Легко ли прописать покой тому, кто сам себе — строжайший надсмотрщик?