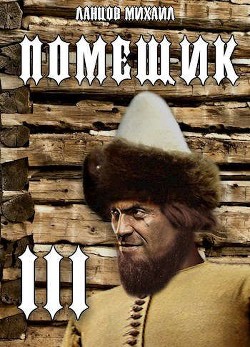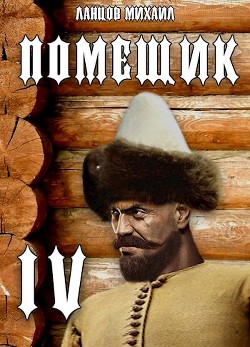Читать книгу 📗 "Железный лев (СИ) - Ланцов Михаил Алексеевич"
— Он самый. В старом смысле этого слова. В том, которые ныне или забыт, или осмеян. И, признаться, Лев Николаевич произвел на меня впечатление. Он едва ли переубедил меня. Я все так же считаю сие дело вредным, но… у меня было ощущение, словно я столкнулся с каким-то сановником Екатерины или Фридриха. Мне и причудиться не могло, что-то такое встретить в наши дни…
Герцен молча кивнул.
Он был полностью согласен с собеседником.
К 1840-ым годам вольтерьянцами в основном называли вольнодумцев, в целом, всех фасонов, нежели конкретное течение в философии. Хомяков видел в нем западный рационализм, вредный для русского духа. Консерваторы же использовали термин как ругательство, обзывая им либералов. А вот Герцен вырос из вольтерьянства, перейдя позже в гегельянство, равно как и многие либерально настроенные мыслители тех лет. Впрочем, он уже давно отказался от идей Вольтера и всецело утонул в идеализме Гегеля. Как и Хомяков, ибо славянофильство было лишь местной, локальной формой этого идеализма…
[1] В России тех лет в приличном обществе русская кухня или, точнее сказать, не французская кухня, считалась чем-то дурным. Например, воспринималось как чудачество или желание сэкономить на поваре-французе. А тут такое… Хомяков и Герцен были несколько обескуражены. Но стол был достаточно богатым, поэтому они воспринимали этот поступок Льва как выходку фрика. Такие встречались. Более развернуто позже в ТГ канале напишу.
[2] Il faut cultiver notre Jardin (фр.) — Надо возделывать свой сад.
Часть 3
Глава 3
1844, май, 1. Казань — Окрестности Казани
Мужчина вышел из особняка, придерживая под мышкой красивую трость.
Новенькую.
Только прислали из Москвы, сделав по специальному заказу.
На вид — изящная, лакированная черного дерева с латунной оковкой снизу и набалдашником в виде головы льва. Внутри же кованая стальная трубка, выточенная на токарном станке и с умом закаленная. При этом верхнюю часть трости можно было отщелкнуть, зажав декоративные выступы. Освобождая при этом полноценный стилет длиной в полторы ладони. Причем крепление клинка не ослабляло всей конструкции, оставляя возможность ее использовать как дубинку.
Дорогое изделие.
Триста рублей отдал. И это еще повезло сторговаться.
Под сюртуком, который приходилось носить ради приличий, Лев разместил нунчаки. Также изготовленные на заказ. Достаточно легкие — полые из латуни, скрепленные короткой цепочкой, каждое звено которой было пропаяно. Вставлял одну палку в левый рукав сюртука, а вторую опускал вдоль корпуса. Для чего сюртук был немного доработан. Ну, чтобы это не бросалось в глаза.
На правой ноге у туфли располагались ножны с небольшим, но вполне боевым ножом. Этакий аварийный вариант, на всякий пожарный.
Ремней, к сожалению, покамест не носили. Но Лев уже подумывал о том, что стоило бы плюнуть на приличия и привести к некоторому удобству этот весь вздор, который ему приходилось носить.
Пистолета тоже не имелось.
Пока.
Заказанные им капсюльные дерринджеры, английской выделки, еще были в пути. И когда придут — неясно. Но и так он чувствовал себя не в пример убедительнее, чем раньше. Со стороны же — франт. Тем более, что за своим видом он следил, памятуя о том, что по одежке встречают. Не дэнди лондонский, но все очень складно и аккуратно. Глянешь и первая мысль — у человека жизнь удалась.
— Лев Николаевич, — произнес знакомый женский голос, когда он выезжал на дорогу со двора.
— Анна Евграфовна, — с наигранной радостью произнес Толстой. — Какими судьбами вы в наш глухой угол заехали?
— Мне хотелось бы с вами обсудить дела.
— Увы, но в ближайшее время я буду занят. Вот — еду приглядеть за строителями и управляющим.
— И как скоро вы освободитесь?
— Для вас, пожалуй, лет через триста.
— Лев! — вскинулась женщина.
— Виссарион Прокофьевич мне все рассказал, — сухо ответил Толстой.
Повисла тяжелая пауза.
Подчеркнуто холодное равнодушие Льва Николаевича, который смотрел на эту женщину, словно на пустое место… словно ее там и нету вовсе. И, напротив, графиня, на лице которой смешался ужас с обидой. Она даже губу прикусила, чтобы не дрожала и не выдавала ее эмоций.
— Честь имею, — наконец произнес граф, приподнимая цилиндр.
— Лев! Прошу! Выслушайте меня!
— Зачем?
— Дайте мне буквально несколько минут.
— Для чего? Я прекрасно вас понимаю. Женщина, которая посчитала себя отвергнутой, способна на любые мерзости. Такова уж ваша природа. Я не в обиде. Но дел более с вами никаких иметь не собираюсь, равно как и общаться. Признаться, я полагал, что вы выше этого…
— Мария Николаевна, она… мне нужна ваша помощь.
— При чем тут она?
— Не ради себя, прошу. Выслушайте меня. Если не хотите расстроить эту милую особу.
Несколько секунд раздумий и граф кивнул, буркнув:
— Следуйте за мной.
После чего чуть тронул тростью кучера и назвал первую в Казани чайную, открытую его усилиями. В которой он постарался воплотить как можно больше всего из быта XXI века. Разумеется, дорогую, прямо скажем — элитную. Иначе мало-мальски адекватный сервис в этих реалиях было не обеспечить.
И располагалась она в соседнем здании с борделем «Ля Мур» — лучшим в городе. Он в него и рублем вложился, и кондомами, и идеями. Неофициально, разумеется. Но кому надо прекрасно знал, кто совладелец лучшего борделя всего Поволжья или даже более того.
Лев для себя старался. На совесть. Потому как быть совладельцем таких мест выгодно.
ОЧЕНЬ.
Не финансово.
Сведения, которые собирали девочки, имели особую ценность, во всяком случае — локальную. Лев Николаевич еженедельно читал сводку, связанную с торговыми делами и всякого рода сплетнями. Кто с кем переспал. Кто у кого что собирается купить. У кого какие проблемы. И так далее.
Впрочем, они с Анной Евграфовной проехали мимо и остановились у чайной «Лукоморье». Вошли. Разместились.
— Странное место, — озираясь по сторонам, сказала она.
— Вам нравится?
— Что-то, право слово, даже не знаю.
— Здание кирпичное, но отделано под сруб. Окна большие, чтобы больше света. Украшение — герои русских народных сказок и поверий. Вон там медведь с балалайкой. А вон — щука волшебная из ведра высовывается. С печи выглядывает Илья Муромец. Видите, какой здоровый?
— А это кто? — указала она на кудрявого человека с пером и блокнотом.
— Пушкин Александр Сергеевич.
— Кто?
— Он самый, Анна Евграфовна. Он самый. Александр Сергеевич ведь не только стихи писал, но и сказки. Видите — он смотрит вон туда — на балку, откуда выглядывает русалка. Со стороны же уборной в него метит Дантес.
— Однако! — хмыкнула графиня.
— Здесь все пространство чайной — единая сказочная композиция. Официанты же приятные глазу девушки — видите какие костюмы? — сказал он, кивая на подошедшую особы.
— Но… не понимаю. Я не узнаю костюма.
— Я, как художник, так увидел молодую бабу-Ягу и решил, почему нет — она же дама толковая, матерая, знает, что нужно добру молодцу: накормит, напоит, спать уложит.
— Все язвите?
— Взгляните на меню.
— Он на русском языке? Фи, Лев! Это же неприлично!
— Неприлично в России разговаривать на французском. Они себе в рот лягушачьи лапки суют и улиток, а мы их языком пользуемся. Стыдно… ей богу, стыдно.
— Все острите? — усмехнулась Анна Евграфовна и начала разглядывать меню.
Большое.
С рисунками еды и описанием.
Лист за листом.
С таким занятным оформлением, под лубок, только нарисованный явно человеком, имеющим за плечами серьезную школу.