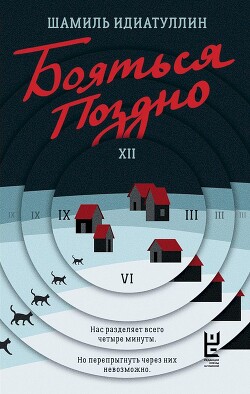Читать книгу 📗 "Смех лисы - Идиатуллин Шамиль"
Ему и без нужды в вечно дефицитных мясе и колбасе не хватало не то что многого — а буквально всего. Ладно бы только еды и питья, которые были дрянными, непривычными либо отсутствовали — в широченной гамме, закрывающей более-менее все его гастрономические интересы: от тофу, хумуса, зелени и нормальных овощей до пива, чая и, естественно, кофе.
Здесь почти не было нормальной одежды: все потели в нейлоне, лавсане и шерсти, потели и не мылись, банный день раз в неделю.
Почти не было удобной обуви — и ступни посетителей бани напоминали назидательные фотки балерин без балеток.
Совсем не было хорошего парфюма и шоколада, фисташек и кешью, манго и авокадо, пиццы и бургеров, фалафеля и хумуса, соевого соуса и кетчупа, любимых фильмов, сериалов, книг и музыки, компьютеров, телефонов и игровых приставок, автомобилей и электросамокатов, психотерапевтов и щадящей стоматологии, мессенджеров и соцсетей, банков и интернета.
Ничего важного и нужного не было.
И никто, кроме него, этого не понимал и понять не мог.
Они жили от гудка до гудка, от звонка до звонка и от зарплаты до зарплаты, много курили, страшно пили, толкались в бесконечных очередях за дефицитом и чем угодно, разговаривали агрессивно и охотно орали на знакомых и незнакомых, совершенно не желая их понимать, из иностранных языков знали только «хенде хох», всё активнее перелезали в идиотские клеши и рубашки при воротниках величиной с Ямальский полуостров и отпускали бакенбарды — ко все более куцым платьям у него особых претензий не было, зато перманентная завивка вместо высоких бабетт и похожие на фингалы голубые тени вместо стрелок бесили, — к тридцати годам толстели и ставили железные, а с особой гордостью — золотые зубы, лысели и делали второй аборт, к сорока становились пожилыми и сердечно недостаточными, мечтали об изолированной квартире, югославской стенке, чешской люстре, итальянских сапогах и дубленке как у вон того актера, и чтобы дети поступили, сын не сел, а дочь не залетела раньше срока, и умирали, не совершив большинства мечтаний.
Это городские. Деревенские, те, что помоложе, мечтали уехать в город, а те, что постарше, ни о чем уже не мечтали, а просто устало тянули лямку.
Нельзя понять что-то, не данное нам в ощущениях, представлениях и воспоминаниях. Особенно если ты материалист. А тут почти все называли себя материалистами, хотя и жили в адском вареве баек, мифов и бабкиных рассказов.
В мире, где «вот те крест» с детства считалось диким суеверием, а «держусь за звездочку» — возвышенным реализмом, экран телевизора прикрывали кружевной салфеткой, чтобы не выгорал и не облучал, и массово верили в чушь про то, что от смешивания сырой и кипяченой воды будет понос, от поедания шелухи семечек, виноградных косточек или оболочки семенной камеры яблока — аппендицит, от вишневого варенья с косточками — отравление синильной кислотой, от альбедо мандаринов, которые в продажу-то поступали раз в год, — заворот кишок, а от подтирания зада газетой — рак.
Рак и канцерогенные вещества считались угрозой похуже атомной бомбы, и особенно боялись его люди, которые окружили себя асбестовыми плитами, сливали в реки и озера, включая Байкал, тонны яда и засыпали поля гербицидами и пестицидами.
Рак они лечили прополисом, мумиё и чайным грибом, простой герпес — ушной серой или влагой с запотевшего окошка, педикулез — дустом, грипп — банками и паром от свежесваренной картошки, насморк — соком алоэ, а от инфаркта спасались мятной таблеткой. Мы с нашим арбидолом и анафероном не очень далеко ушли, конечно, но хотя бы умирающим ими голову не морочим. Не морочили. Не будем морочить. Господи, как он устал.
Ему было очень плохо, все время, но ни исправить, ни изменить, ни хотя бы чуть облегчить положение он не мог.
Он не знал технологий XXI века, поэтому не мог изобрести ноутбук, айфон и интернет на десятки лет раньше срока. Технологий XX века он тем более не знал, как, оказывается, и истории. Он не помнил никаких дат, персон и событий, кроме начала и завершения Великой Отечественной, полета Гагарина и развала СССР. Для него Союз был что Средиземье («Средиземноморье? — уточнил случайный попутчик. — Ты сам откуда такой нарисовался, землячок?» — и ему снова пришлось перебегать в соседний вагон и сходить на первой станции).
«Я ничего не знаю и не умею», — запомнил он накрепко, отступал от этой установки нечасто и всегда с неприятными последствиями.
Личную жизнь он сразу постановил считать несуществующей. Сперва все сильнее скучал по жене, с которой, признаться, все давно разладилось и наладиться не обещало — но могло ведь, кабы не обстоятельства, мать их, непреодолимой силы. А когда организм предсказуемым образом затосковал и заныл, просясь на ручки и на ножки, длинные мягкие женские, обнаружилось, что он вместе с организмом решительно не совпадает с девушками поры, которую позднее, кажется, называли поздне- и послеоттепельной, а в те годы никак особо не называли. Ни стилем не совпадает, ни слогом, ни представлениями о возможном и прекрасном.
Дважды то ли повезло, то ли попустило настолько, что он успокоился и всерьез решил ухнуть в парный режим и пустить корни.
Первый раз его взяла под крыло хорошая женщина, пристроила к себе в коммуналку, была с ним добра, нежна и терпелива, да вообще показала себя удивительно хорошим человеком. Она, кстати, и помогла выправить паспорт на новое имя. Остальное он не менял, кроме даты рождения, конечно, глядя на новую версию которой, несколько секунд бормотал про себя: «Новый тридцать седьмой», — бесясь от невозможности вспомнить, а тем более уточнить, откуда эта еще не написанная строка.
Песни и цитаты из будущего вообще мучили его довольно сильно — и, что самое досадное, без малейшей пользы. Сюжет «Выдал любимые песни или книги будущего за свои и прославился» тут явно не сработал бы: вряд ли советская публика, а тем более надзорные инстанции конца шестидесятых оценили бы книги Мартина, Несбё и Сальникова или репертуар Ламара, Леди Гаги и Скриптонита, да хоть древних Nirvana, Цоя или «Руки Вверх!» — сталь между пальцев, rape me и целуй меня везде, ну да, ну да, пройдемте, гражданин.
Так вот, новое имя он принял с омерзением, но решительно, как упоротый аскет дополнительную веригу: все вокруг чужое и ненастоящее, пускай и имя будет чужим и предельно ненастоящим, из допотопного мультика, как знак того, что это временно, это не твое, это должно кончиться, так или иначе.
Женщина, подобравшая его, исходила из других соображений. Она строила серьезные совместные планы, которые его сперва здорово пугали, а потом он смирился и поверил, что громадье этих планов разделяет и даже любит.
Но все кончилось раньше, чем он полагал, и не так, как он полагал. В одно прекрасное мгновенье он решил все рассказать женщине. В следующее прекрасное мгновение она выставила его за дверь. И он, вздохнув, ушел, пока она не передумала.
Потом, сильно потом, в другом городе и в другой жизни, он влюбился.
Сильно влюбился, в очаровательную девушку гораздо моложе себя, которая работала в бакалейном отделе магазина по соседству с моргом, куда он устроился. В бакалею он захаживал на регулярной, естественно, основе и оценил подведенные стрелками глаза, высокие скулы и тонкую фигурку в узком куцем платье, конечно, сразу, но сразу же себя и одернул: кто она и кто ты, мужик неопределенного возраста в мешковатой одежде, разящей формалином.
Но однажды она, заговорщически улыбнувшись, продала ему кило дефицитной гречки из-под прилавка, по госцене продала, просто специально для него отложила — и остатки его души запели, вздымая весь организм.
Он постригся, побрился и даже прикупил костюм, уродливый, как и всё, доступное его возможностям, но хотя бы не воняющий трупами. Теперь уже сам он принялся строить планы, серьезные и долгосрочные. И был он готов забыть про настоящий мир и настоящее время, приняв, наконец, что настоящее — это то, в котором живешь и умираешь, а не то, которое было, да прошло, и неважно, в какую именно сторону.