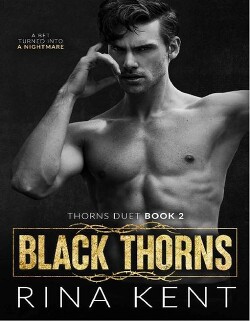Читать книгу 📗 "Шипы в сердце. Том первый (СИ) - Субботина Айя"
Я должна врать. Звездеть так, чтобы Гельдман поверил и отсрочил свой приговор.
Охранник на входе провожает меня до той самой ВИП-зоны, где мы встречались в прошлый раз. Гельдман уже там. Сидит в том же кресле, в той же позе хозяина мира. В руке — неизменный стакан с коньяком. Он поднимает на меня взгляд, и его крохотные глазки впиваются в меня, как булавки.
— Крисочка, радость моя, — тянет он сочащимся фальшивым медом голосом. — А я уж начал волноваться. Думал, ты решила проигнорировать приглашение своего старого крестного.
Я сажусь в кресло напротив, ставлю сумку на колени. Руки впиваются в ремешок.
— Что вы, дядя Боря, — выдавливаю послушную улыбку. — Просто перелеты и смены часовых поясов плохо на меня влияют.
Он усмехается. Ему нравится видеть мой страх, мою покорность.
— Ну, рассказывай, курочка. Чем порадуешь? Вадик уже распустил перед тобой свой павлиний хвост?
Я делаю глубокий вдох, собирая в кулак остатки самообладания.
— Лев Борисович, я же говорила… Авдеев очень осторожен. Он не обсуждает со мной дела. Совсем. Я… я правда пыталась.
— Пыталась? — в голосе Гельдмана звучит напряжение. — Что-то я не вижу результатов, деточка.
— Он почти все время на телефоне, — начинаю я, стараясь, чтобы голос звучал как можно более искренне. — Но он никогда не говорит ничего конкретного. Какие-то обрывки фраз… цифры… Я не понимаю, что из этого важно.
Смотрю на него, пытаясь изобразить на лице смесь растерянности и усердия: «Я тупая курица, я не разбираюсь, но я очень стараюсь для вас, мой дорогой крестный».
— Он несколько раз созванивался с Дёминым, — бросаю как бы невзначай. — Говорил про какую-то сделку… что-то про то, что «понижать нельзя», что «нужны другие условия». Я не поняла, о чем речь.
Я замолкаю, наблюдая за его реакцией. Гельдман хмурится. Его пальцы нетерпеливо барабанят по подлокотнику кресла. Он недоволен. Эта информация для него — пустой звук, общие фразы, которые он, скорее всего, и так знает.
— Дёмин… — повторяет он задумчиво. — Это все, что ты смогла узнать, Крисочка? Жалкие крохи? Неделю ты терлась об Авдеева своей пиздой практически круглосуточно — и услышала только… это?
— Я правда старалась! — В моем голосе появляются нотки отчаяния. И они, черт возьми, абсолютно настоящие. — Я пыталась подслушать, задавать наводящие вопросы… Но он сразу закрывается. Говорит, что это не женского ума дело. Что мне лучше думать о платьях, а не о его контрактах.
Я опускаю глаза, изображая обиду и унижение. Разыгрываю партию: «Видишь, какой он мудак? Не подпускает меня к кормушке. А я так хочу быть для тебя полезной!»
Гельдман молчит. Мучительно долго молчит. Я слышу, как стучит мое собственное сердце. Кажется, он мне не верит. Сейчас скажет, что я вру. Что я просто тяну время. И тогда…
— Ладно, — наконец, произносит он. И в одном этом слове — весь спектр его эмоций: разочарование, раздражение и толика снисхождения. — Допустим, ты не врешь. Допустим, Авдеев действительно держит тебя на коротком поводке. Но время, Крисочка, уходит. Мне нужна конкретика.
Он подается вперед, его голос становится тише, злее.
— У тебя есть неделя. Не больше. Чтобы достать мне то, что нужно. Доступ к его ноутбуку, телефону, документам. Что угодно. Если через неделю ты придешь ко мне с пустыми руками… я решу, что ты решила поиграть со мной в свои игры. А я это очень не люблю.
Я судорожно киваю. Неделя. Всего неделя. Это не спасение. Это отсрочка казни.
— Я… я попробую, Лев Борисович. Клянусь.
— Вот и умница, — он снова откидывается в кресле, его лицо вновь принимает благодушное выражение. — Я знал, что мы договоримся.
Я чувствую легкое, почти тошнотворное облегчение. Получилось. Он поверил. Или сделал вид, что поверил. Неважно. У меня есть еще немного времени.
Домой приезжаю совершенно разбитая. Тело ломит, голова гудит. Я забиваюсь под одеяло и пытаюсь уснуть. Но сон не идет. Лежу в темноте, смотрю в потолок и снова, и снова прокручиваю в голове наш разговор. Каждое слово, каждый взгляд.
Я убеждаю себя, что все будет хорошо. Что я справлюсь. Что я смогу обмануть Гельдмана, смогу дождаться, пока Вадим… полюбит меня. И тогда…
Дрожь накатывает мощно, сразу. Валом, как лавина.
Без предупреждения. Без всякой видимой причины.
Сначала — легкое головокружение. Потом — нехватка воздуха. Я пытаюсь вдохнуть, но легкие будто сжимает ледяной обруч. Сердце срывается с цепи, колотится где-то в горле, в ушах, в висках. По венам растекается дикий, животный страх. Он парализует, сковывает, безапелляционно лишает воли.
Я сползаю с кровати на пол, задыхаясь. Тело бьет крупная дрожь. Мне холодно. Так холодно, что кажется, я превращаюсь в ледяную статую. Обхватываю себя руками, пытаясь согреться, но это не помогает.
Перед глазами вспыхивают картинки. Нечеткие, размытые. Пытаюсь отвертеться от них, но чем больше мотаю головой — тем настырнее они лезут в голову.
Темный коридор. Я снова маленькая, прячусь под лестницей.
Слышу крики. Глухие удары. Папин голос. Спокойный, почти равнодушный.
«Я же просил тебя быть хорошей…»
Удар. Хлесткий, страшный. И женский плач. Задавленный, полный боли и отчаяния.
Я зажимаю уши, качаюсь взад-вперед, как сумасшедшая.
Не хочу. Не хочу это видеть. Не хочу это слышать. Это не мой папа. Это не мой любимый папулечка…
«Улыбайся, сука! Я сказал, улыбайся!»
Я хочу убежать, но вместо этого иду вперед.
Ступнями — по битому стеклу, но боли почему-то совсем не чувствую, только противный хруст.
На этот раз я ее вижу.
Первые секунды лицо размытое, но я уже сейчас знаю, что это не мама.
Нет.
Это Виктория. Мою мачеха. Она стоит на коленях, с растрепанными волосами, в разорванном платье. На ее щеке — красный след от ремня, на спине — глубокие порезы и ожоги, некоторые совсем свежие. Она смотрит на меня. Прямо на меня.
С такой отчаянной мольбой, что это чувствуется даже сквозь время.
«Кристина… помоги… пожалуйста…»
Мачеха тянет руки.
Отец с размаху снова перетягивает ее ремнем — красный след ложится на плечи, моментально вспыхивает и набухает. В воздухе появляется запах крови.
Она орет, падает на пол, но продолжает ползти ко мне — ее скрюченные окровавленные пальцы со сломанными ногтями, цепляюсь в дорогое покрытие пола, оставляя на нем безобразные полосы.
«Кристина, умоляю… позови на помощь, прошу тебя!»
А я… я просто разверчиваюсь и бегу, чтобы спрятаться под лестницей.
Сжимаюсь в комок. Мне страшно. Так страшно, что я не могу пошевелиться. Я закрываю глаза, зажимаю уши, повторяю про себя дурацкую считалочку.
Я жду. Просто жду, когда все закончится.
И… все заканчивается. Наступает тишина. Я слышу шаги.
Это мой любимый папочка. Он подходит, садится на корточки, заглядывает мне в лицо.
Его глаза… они добрые. Ласковые. В них нет и тени той ярости, которую я видела мгновение назад.
«Ты моя хорошая маленькая девочка, — он гладит меня по голове. — Ты же не расскажешь никому, что здесь было, правда? Ты же будешь хорошей девочкой, и не заставишь меня расстраиваться?»
Я смотрю на него и отчаянно, судорожно киваю.
Обнимаю изо всех своих сил.
Вдыхаю его запах.
Запах силы, защиты, любви. Вот это — мой папа. Мой самый лучший, самый добрый папа на свете. А все остальное — просто страшный сон. Я сейчас закрою глаза крепко-крепко — и когда открою их, все снова будет хорошо. Потому что я — его маленькая хорошая девочка, и никогда не дам повод тому, другому… вернуться.
Я с трудом открываю глаза. Лежу на полу в своей спальне.
Дрожь давно утихла, но холод проник так глубоко, что ощущается даже в костях. Наверное, поэтому я совсем ничего не чувствую. Только пустоту. И огромную, черную дыру в том месте, где должно быть сердце.
Виктория.
Это была Виктория.
А я… ничего не сделала.